- 101348 Просмотров
- Обсудить


БЕСЕДА | БЕСЕДА (1) | БЕСЕДА (2) | ЭРИХ ФРОММ БЕСЕДА | РИТОРИКА (10) | РИТОРИКА (9) | РИТОРИКА (8)
РИТОРИКА (7) | РИТОРИКА (6) | РИТОРИКА (5) | РИТОРИКА (4) | РИТОРИКА (3) | РИТОРИКА (2) | РИТОРИКА (1)


ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | РАЗУМ
РИТОРИКА | КРАСНОРЕЧИЕ | РИТОРИЧЕСКИЙ | ОРАТОР | ОРАТОРСКИЙ | СЛЕНГ | ФЕНЯ | ЖАРГОН | АРГО | РЕЧЬ ( 1 )

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ( 1 ) | ЦИЦЕРОН ( 1 ) | ВОЛЯ | МЕРА | ЧУВСТВО
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ | ФРЕЙД | ЮНГ | ФРОММ | РУБИНШТЕЙН | НИЦШЕ | СОЛОВЬЕВ

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ | ПЛУТАРХ | ЦИЦЕРОН | СОКРАТ | ЛОСЕВ
ГРУППА | ГРУППОВОЕ | КОЛЛЕКТИВ | КОЛЛЕКТИВНОЕ | СОЦИАЛЬНЫЙ | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ | СЕНЕКА | ХАРАКТЕР


ПСИХИКА | ПСИХИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | ПСИХОАНАЛИЗ | ЛЮБОВЬ | ПРАВО | ДОЛЖНОЕ
ТРОП | СРАВНЕНИЕ | ЭПИТЕТ | ГИПЕРБОЛА | МЕТАФОРА | ИРОНИЯ | ОКСИМОРОН | СИНЕКДОХА | ЯЗЫК | ТЕМПЕРАМЕНТ

ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9)(3)(4) (8)





РИТОРИКА (7) | РИТОРИКА (6) | РИТОРИКА (5) | РИТОРИКА (4) | РИТОРИКА (3) | РИТОРИКА (2) | РИТОРИКА (1)


ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | РАЗУМ
РИТОРИКА | КРАСНОРЕЧИЕ | РИТОРИЧЕСКИЙ | ОРАТОР | ОРАТОРСКИЙ | СЛЕНГ | ФЕНЯ | ЖАРГОН | АРГО | РЕЧЬ ( 1 )

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ( 1 ) | ЦИЦЕРОН ( 1 ) | ВОЛЯ | МЕРА | ЧУВСТВО
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ | ФРЕЙД | ЮНГ | ФРОММ | РУБИНШТЕЙН | НИЦШЕ | СОЛОВЬЕВ

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ | ПЛУТАРХ | ЦИЦЕРОН | СОКРАТ | ЛОСЕВ
ГРУППА | ГРУППОВОЕ | КОЛЛЕКТИВ | КОЛЛЕКТИВНОЕ | СОЦИАЛЬНЫЙ | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ | СЕНЕКА | ХАРАКТЕР


ПСИХИКА | ПСИХИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | ПСИХОАНАЛИЗ | ЛЮБОВЬ | ПРАВО | ДОЛЖНОЕ
ТРОП | СРАВНЕНИЕ | ЭПИТЕТ | ГИПЕРБОЛА | МЕТАФОРА | ИРОНИЯ | ОКСИМОРОН | СИНЕКДОХА | ЯЗЫК | ТЕМПЕРАМЕНТ

ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9)(3)(4) (8)





V


 Когда Цицерон писал диалог "Об ораторе", он не предполагал, что вернется к этому предмету вновь. Тема "Об ораторе" была для него лишь подступом к теме "О государстве", и красноречие занимало его лишь как средство политики. Однако не прошло и десяти лет, как ему вновь пришлось обратиться к обсуждению теории красноречия, и на этот раз безотносительно к политике, с точки зрения эстетической по преимуществу. Так явились трактаты "Брут" и "Оратор", почти тотчас один после другого, перекликающиеся друг с другом и дополняющие друг друга. В них получают развитие те же мысли, какие были высказаны в диалоге "Об ораторе", но в новых обстоятельствах они приобретают новое значение. "Брут" и "Оратор" были написаны в 46 г., в течение первого года по возвращении Цицерона в Рим. Это был год окончательного торжества Цезаря: в апреле он разбил в Африке последнее войско помпеянцев во главе со Сципионом и Катоном, в июне вернулся в Рим, в августе справил неслыханный по великолепию четверной триумф, конец года посвятил законодательству и административным реформам. Цицерон все это время жил в Риме, в двусмысленном положении прощенного помпеянца, скорбным созерцателем гибели республики и робким заступником перед победителем за побежденных: в сентябре 46 г. им произнесена перед Цезарем благодарственная речь за прощение Марцелла, в промежутке между "Брутом" и "Оратором" им написана похвала Катону, идейному вождю республиканцев, покончившему самоубийством в Африке после победы Цезаря. Политическая роль Цицерона была уже сыграна, это понимали все, и он сам в первую очередь. У него оставалось единственное утешение – слава первого оратора своего времени. Тем болезненнее он почувствовал, что и эта его слава была под угрозой. С молодых лет Цицерон выработал свой идеал красноречия, стремился к нему и считал, что близок к его достижению. А теперь, вернувшись в Рим после четырехлетнего отсутствия, он увидел, что на смену его поколению выдвинулось новое, не разделявшее его ораторских идеалов и искавшее иного совершенства. Во главе этих новых на форуме людей стояли Лициний Кальв, талантливый поэт и темпераментный оратор, и Марк Юний Брут, уже знакомый нам молодой друг Цицерона; к ним примыкали Марк Калидий, Квинт Корнифиций, Азиний Поллион, все личные знакомые Цицерона и по большей части цезарианцы. Им было по тридцать-сорок лет; называли они себя "аттиками". Чтобы понять происхождение этого течения, которое принято называть аттицизмом, следует вернуться лет на сто назад, в мир греческой риторики эпохи эллинизма. Мы помним, что в риторической школе эпохи эллинизма преподавание держалось на двух основах: на изучении риторической теории и на изучении образцов – аттических ораторов V-IV вв. Риторическая теория изменялась с изменением вкусов и требований современности, помогая ученикам создавать все более пышные и велеречивые произведения; образцы оставались неизменными в своем классически ограниченном величии. С течением времени разрыв между эстетикой теории и эстетикой образцов становился все сильнее и в языке, и в стиле, и в тематике красноречия. Художественное чувство античности ощущало такой разрыв крайне болезненно. Традиционализм всегда был самой характерной чертой античного искусства, по крайней мере, у его теоретиков: эстетический идеал виделся ему не впереди, а позади, вместо поисков оно призывало к подражанию, имена классиков каждого жанра окружались почти религиозным почитанием, и поэты воспроизводили язык и стиль Гомера, Софокла и Пиндара с такой точностью, которая показалась бы нам стилизацией. Искания и эксперименты дозволялись лишь в тех жанрах, которые не были еще освящены классическими художественными образцами. Проза дольше, чем поэзия, сопротивлялась давлению традиции, так как проза была теснее связана с запросами действительности; но когда связь красноречия с жизнью ослабела, и художественное слово превратилось в искусство для искусства, тирания образцов распространилась и на нее. Произведения аттических прозаиков стали казаться единственно совершенными, а все последующие памятники стиля – искажением и извращением. Подражания Лисию, Платону и Демосфену были удостоены почетного имени "аттицизма", а традиции эллинистической прозы заклеймены презрительной кличкой "азианства". Органическое развитие классики подменилось ее догматизацией. Вместо живого художественного чувства основой творчества стала педантически тщательная ученость, отмечающая "аттические" особенности образца и воспроизводящая их в подражании. Аттицизм был созданием теоретизирующих эстетов в эллинистических культурных центрах, ученой модой, доступной лишь узкому кругу ценителей. В дни Цицерона это была еще спорная новинка, и только в следующем после него поколении, при Дионисии Галикарнасском и Цецилии Калактинском он получил широкое признание в греческом мире. На римской почве судьба его была иной. Строго говоря, аттицизм вообще не мог быть воспроизведен в латинской речи: языковый пуризм аттицистов, провозглашавших отказ от современного греческого языка и возвращение к аттическому диалекту трехвековой давности, понятным образом, не мог быть перенесен в латинский язык; принцип возврата к древним образцам через голову новейших также был неуместен в латинском красноречии, где древних образцов, по существу, не было вовсе. Однако тех молодых римлян, которые так неожиданно и торопливо провозгласили себя аттицистами, пленяло в греческом учении совсем не это. Им нравился более всего самый дух учености, труднодоступного искусства, умственного аристократизма, проникавший реставраторские изыскания греческих риторов. Это было поколение, вступившее в политическую жизнь Рима уже после того, как террор Мария и Суллы оборвал преемственность древних республиканских традиций; заветы Сципиона, Сцеволы и Красса для них уже не существовали, и на агонию республики они смотрели не с болью, как Цицерон, а с высокомерным равнодушием. От политических дрязг они уходили в личную жизнь, в искусство и в науку; чем меньше общего имели их занятия с интересами форума, тем дороже им были эти занятия. Такова была ученая и любовная поэзия Катулла и Кальва, подражавшая изысканнейшим александрийским образцам, такова была философия Лукреция с ее аполитизмом и пафосом чистой науки, таковы были их исследования в области грамматики (так называемый аналогизм, о котором нам еще придется говорить), права, энциклопедических наук и т.д. Аттицизм в красноречии также был одной из форм этого протеста против современности. Вовсе отстраниться от политической жизни молодые римляне не могли, да, пожалуй, и не хотели; но снисходить в своих речах до угождения вкусам толпы было ниже их достоинства (если не говорить о таких ораторах, как Целий или Курион, в своем презрении к вырождавшейся республике доходивших до крайнего политического авантюризма). Пышная выразительность гортензиевского и цицероновского слога им претила. Вместо чувств слушателей, они обращались к их разуму, вместо полноты и силы искали простоты и краткости. К этому их толкала и философия, которую они исповедовали: стоицизм с его культом логики и отрицанием страстей и эпикурейство, осуждавшее всякую заботу о художественности речи. Поэтому аттицизм греческих теоретиков в восприятии римских практиков претерпел любопытные изменения: если у греков в ряду аттических образцов выше всего ставилось развитое искусство Демосфена (как мы увидим впоследствии у Дионисия Галикарнасского), то для римлян на первый план выдвинулась старинная безыскусственность Лисия и (с натяжками) Фукидида. Благозвучие словосочетаний, периодический строй, ритм – все это казалось уже позднейшими ухищрениями, недостойными истинного "аттика"; и писатели, приверженные к такого рода изяществу речи, клеймились именем "азианцев". Первым среди них, разумеется, был Цицерон. Тацит и Квинтилиан сохранили память о тех нападках, какими осыпали Цицерона римские аттицисты. Тацит пишет: "Хорошо известно, что даже у Цицерона не было недостатка в хулителях, которым он казался надутым, напыщенным, недостаточно сжатым, не знающим меры, многословным и мало аттическим. Вы, конечно, читали письма Кальва и Брута к Цицерону, из которых легко увидеть, что Кальв казался Цицерону бескровным и сухим, Брут – вялым и несвязным, но и Цицерон в свою очередь подвергался нареканиям от Кальва за расплывчатость и бессилие, а от Брута (по его собственным словам) за изломанность и развинченность". Квинтилиан подтверждает: "Современники дерзали даже нападать на него как на оратора азианского, напыщенного, не в меру обильного, излишне щедрого на повторения, подчас холодного в шутках, изломанного в построении речи, тщеславного и чуть ли не женоподобного (что было ему совершенно несвойственно); в особенности набрасывались на него те, которые желали казаться подражателями аттиков". Конечно, Цицерон не мог примириться с таким отношением к его эстетической программе и к его ораторским достижениям. Едва освоившись с новым положением в Риме, он начинает полемику против аттицистов. Обстоятельства складывались для него благоприятно: в 47 г. скончались Калидий и Кальв, еще раньше погибли в гражданской войне Курион и Целий, и теперь вождем аттицизма бесспорно оставался Брут, близкий друг и политический единомышленник Цицерона, глубоко уважавший старого оратора. Цицерон мог надеяться, что ему удастся убеждением отвратить Брута от аттицизма и сделать его своим наследником в искусстве величественного традиционного стиля. К Бруту Цицерон обращает оба свои сочинения 46 г.: в "Бруте" он выступает собеседником, в "Ораторе" – адресатом. Цель этих сочинений – обосновать законность и превосходство того ораторского идеала, пути к которому Цицерон указал в диалоге "Об ораторе". Обоснование двоякое: с точки зрения исторической в "Бруте", с точки зрения теоретической в "Ораторе". "Брут" был написан раньше, хотя по содержанию он был менее важен для Цицерона, чем "Оратор". По-видимому, лишь случайное обстоятельство побудило Цицерона взяться в первую очередь за историю, а не за теорию красноречия. Друг Цицерона, Аттик, только что закончил "Летопись" – небольшой исторический труд, о котором Цицерон упоминает не раз и с неизменным восхищением. Если бы этот труд дошел до нас, вряд ли мы разделили бы восторг Цицерона; по-видимому, это была простая хронологическая таблиц с указанием имен магистратов каждого года и важнейших событий римской (а отчасти и греческой) истории, случившихся в эти годы. Однако нужно вспомнить все несовершенство древнего летосчисления, которое не знало последовательной нумерации годов и поэтому сталкивалось с постоянными трудностями при расчете промежутков между событиями и с еще большими – при синхронистических сопоставлениях: тогда мы оценим значение книги Аттика для римских историков. Для Цицерона же она имела и другое значение. Римское красноречие было прежде всего красноречием политическим, и этот однообразный перечень консулов и преторов за пятьсот лет был в то же время перечнем ораторов, более значительных или менее значительных, память о которых жила в римском красноречии и на опыте которых учились молодые ораторы. Книга Аттика побудила Цицерона упорядочить свои юношеские воспоминания, расположить их в хронологической последовательности и обобщить мыслями о направлении развития римского красноречия и о его уроках. Так создался "Брут". Художественная форма "Брута" – диалог, но диалог не столь драматически разработанный, как в книгах "Об ораторе": в нем меньше платоновского и больше аристотелевского элемента (хотя и здесь фоном для разговора служит статуя Платона – "Брут", 24 – как в первой книге "Об ораторе" – платоновский платан). Действующие лица диалога – сам Цицерон, Брут и Аттик; но по существу их беседа представляет собой длинную лекцию Цицерона по истории ораторского искусства, лишь изредка в паузах перебиваемую репликами или дополнениями собеседников. План сочинения определяется материалом: это – хронологический обзор римских ораторов в последовательности их консульских или преторских дат (нарушаемой лишь сравнительно редко) с краткими характеристиками каждого. Для удобства обозрения материал более или менее отчетливо членится на несколько периодов, приблизительно соответствующих поколениям: время до Катона (53-60), время Катона (61-80), время Лелия и Гальбы (81-102), время Гракхов (103-138), время Красса и Антония (139-200), время Сульпиция и Котты (201-233), время Гортензия (233-329). Имя Гортензия служит как бы рамкой и хронологическим рубежом повествования: сожалением о его недавней смерти (в 50 г.) начинается книга Цицерона, рассуждением о его красноречии она кончается. Ораторов, которые еще живут и здравствуют, Цицерон намеренно не касается: исключение сделано лишь для Цезаря и Марцелла, да и то лестная речь о Цезаре вложена в уста Аттика. Периоды, намеченные Цицероном, довольно обширны, поэтому внутри них он подробно останавливается лишь на более видных ораторах, а второстепенных перечисляет небольшими группами; иногда группировка производится по какому-нибудь явному признаку (ораторы-стоики, 117-121; ораторы неримского происхождения, 169-172; ораторы, погибшие в гражданской войне, 265-269), но часто – просто для легкости изложения. Вступлением к обзору римского красноречия служит очень краткий обзор греческого красноречия (26-38) с хронологическим сопоставлением греческой и римской древности (39-51). Отступления в ходе повествования немногочисленны (если не считать попутных замечаний о хронологии, о подлинности текстов и т.п.). Выделяется лишь одно, с явным расчетом помещенное в самой середине сочинения – о соотношении суждений знатоков и публики (183-200). Общее число ораторов, перечисленных Цицероном в "Бруте" – свыше двухсот. Он намеренно старается упомянуть даже самых незначительных деятелей римского красноречия. Цель его при этом двоякая: во-первых, показать, что Рим всегда славился рвением к художественному слову (впрочем, он сам не очень всерьез принимает всю эту массу ораторов, однако свое скептическое к ним отношение высказывает не лично, а устами трезво мыслящего Аттика – см. 244 и 297); во-вторых, подчеркнуть, как много достойных граждан стремилось достичь идеала красноречия и сколь немногим это удавалось, – как мы помним, эта тема уже звучала во введении к диалогу "Об ораторе". Источниками для суждений Цицерона были, прежде всего, собственные речи ораторов, записанные и сохранившиеся. Не следует слишком доверять его словам, когда он говорит, что "отыскал и прочитал" сто пятьдесят речей Катона (165); но несомненно, что со своим неизменным интересом ко всему, что касалось красноречия, Цицерон читал их больше, чем кто-нибудь из его современников. Ценность таких речей была неодинакова: одни из них были записаны самими авторами, другие – скорописцами на форуме, некоторые сохранились лишь в конспектах (ср. 160, 164), были даже подложные речи (ср. 99, 205). Почти всех римских ораторов двух последних поколений Цицерон знал лично, видя и слыша их на форуме в течение сорока лет, и судил о них по собственным впечатлениям. Об ораторах предыдущих двух поколений Цицерон мог в юности слышать подробные рассказы от Сцеволы, Красса и других старших современников: "Мы утверждаем это, опираясь на воспоминания отцов", – ссылается он в одном месте (104 – о талантах Тиберия Гракха и Карбона). Характерно, что говоря о тех ораторах, которых он видел собственными глазами, Цицерон никогда не упускает случая упомянуть об их внешности, голосе и жестах, тогда как о более ранних ораторах ему удается это сообщить лишь в редких случаях. Красноречие догракховского времени известно Цицерону лишь по писанным речам, а красноречие докатоновского времени – лишь по догадкам. Из исторических сочинений, содержавших важный для историка красноречия материал, Цицерон пользовался "Началами" Катона (где Катон приводил собственные речи – 66, 75, 89, 90) и "Анналами" Фанния (может быть, лишь в извлечении, сделанном Брутом – 81, ср. "К Аттику" XII, 5, 3); привлекал также стихи Энния (58), Луцилия (160, 172), Акция (72). Другие литературные источники Цицерона скрыты от нас обычной для диалога условной безличностью: "говорят", "известно", "мы слышали" и т.п. Историко-литературное значение "Брута" огромно. Это едва ли не единственное связное и полное сочинение по истории литературы, сохранившееся до нас от античности. Без этих заметок Цицерона, при всей их краткости и схематичности, наше представление о началах римской прозы было бы гораздо более смутным. Для Цицерона римское красноречие было предметом национальной гордости, и он был счастлив стать первым его историком. "Я воздал немалую хвалу римлянам в той нашей беседе, которую я изложил в "Бруте" как из любви к своим, так и из желания ободрить других", – писал он впоследствии ("Оратор", 23). Однако главная цель произведения заключалась не в этом. "Весь этот наш разговор ставит целью не только перечисление ораторов, но и некоторые наставления", – признается он в конце диалога (319). "Брут" – сочинение прежде всего критическое и полемическое. Литературно-критическая направленность "Брута" видна прежде всего в многочисленных оценках отдельных ораторов. Здесь Цицерон наименее оригинален. Его критерии соответствуют традиционной системе школьной риторики: "дарование – ученость – усердие" (22, 92, 98, 110, 125 и др.), "красноречие совещательное – красноречие судебное" (112, 165, 178, 268 и др.), "нахождение – расположение – изложение – произнесение" (139-141, 202), "правильность – ясность – пышность – уместность" (там же), "убеждение – услаждение – волнение" (144-145, 202-203, 274); по рубрикам этой схемы раскладываются достоинства и недостатки каждого оратора; и лучшим показателем практичности этой выработанной веками схемы является то, что для каждого оратора она дает свое неповторяющееся сочетание характеристик. Разумеется, при вынужденной беглости обзора эта рубрикация все одних и тех же качеств делает характеристики бледными и монотонными. Избегая этого, Цицерон старается объединять важнейшие имена попарно, чтобы они оттеняли друг друга: так, в Лелии было больше изящества для убеждения, а в Гальбе больше силы для возбуждения волнения (89); Антоний был сильнее в произнесении, Красс – в подготовке речи (215); Котта отличался искусной сдержанностью, Сульпиций – патетической пылкостью (202-203) и т.д. В тех же профессиональных терминах оценивает Цицерон и отдельные речи своих ораторов (159-162, 194-198 и др.). Современный читатель, который требует от критики прежде всего выявления индивидуальности и внутреннего единства писательского творчества, может остаться не удовлетворен подобными характеристиками; но следует помнить, что Цицерон пишет не серию литературных портретов, а обзор развития красноречия, и черты общего для него важнее, чем черты индивидуального. В самом деле, если присмотреться к цицероновским характеристикам, то легко увидеть предмет преимущественного внимания Цицерона. Это – соотношение таланта, учености и упражнения, тот же вопрос, который был поставлен в первой книге "Об ораторе". Действительно, Цицерон заботливо отмечает все условия, влиявшие на формирование оратора: домашнее воспитание и семейные традиции (108, 210, 211, 213), диалектное окружение (170, 171), имена наставников (101, 104, 114, 245, 263), научный кругозор (81, 94, 175 и др.) или отсутствие такового (213-214). Развитие римского красноречия есть следствие распространения культуры в римском обществе – такова основная мысль Цицерона, которую он старается иллюстрировать всем ходом своего изложения. Большие дарования всегда были среди римских ораторов; но то, что дарованием достигается случайно и наугад, с помощью науки может быть достигнуто легче и наверняка. До Катона римское красноречие было вполне стихийным; Катон первый стал уделять художественной стороне красноречия особое внимание. Лелий и за ним Гай Гракх впервые сочетали римское красноречие с греческой философией. Рутилий Руф последовал за ними, но выбрал неправильный путь и застыл в стоических тонкостях; правильный путь нашли Антоний и Красс, в творчестве которых римское красноречие достигает высшего блеска. Путь к дальнейшему совершенствованию открыт, и углубление философской мудрости красноречия сулит ораторам большие удачи; правда, Котте и Сульпицию для этого не хватало полноты дарования, а Гортензию – постоянства и усердия, но тот оратор, который совместит в себе большой талант и большие познания во всех науках, несомненно достигнет идеального совершенства. Нет нужды добавлять, что в понимании Цицерона этот мастер, которому суждено достигнуть идеала, – сам Цицерон. Правда, в ходе диалога он неизменно уклоняется от разговора о самом себе (161-162, 322); но устами собеседников и упоминаемых лиц он достаточно часто высказывает лестные мнения о собственном таланте (123, 140, 150, 190, 254); а заканчивая книгу воспоминаниями о своей молодости, о научных занятиях и ораторских упражнениях (интереснейший образец "духовной автобиографии", едва ли не единственный в дошедшей до нас античной литературе), он явно желает дать конкретное представление о том общеобразовательном идеале, который должен найти воплощение в совершенном ораторе. Таким образом, Цицерон в своей истории красноречия рисует продуманную картину исторического прогресса и постепенного восхождения от ничтожества к совершенству. "Ничто не начинается с совершенства", – заявляет он, и подтверждает это примерами из истории литературы и искусства (69-73, ср. 26-36 и 296). Он относится к древности с глубоким почтением, но не как к живому образцу, а как к музейному памятнику; он готов допустить даже подражание Катону, но лишь при условии, чтобы были исправлены и улучшены все несовершенства Катона, очевидные современному взгляду (69; "я не столько порицаю древность за то, чего в ней нет, сколько хвалю за то, что в ней есть", – скажет он потом в "Ораторе", 169). Эта концепция прогресса – прямая противоположность той концепции упадка и искусственного возрождения, которой придерживались аттицисты. Цицерон согласен, что за достигнутым совершенством наступает упадок, как это случилось в Афинах после Демосфена и Эсхина; но римское красноречие, по его мнению, еще не достигло своей вершины, и поэтому говорить об упадке рано: золотой век римского слова не позади, а впереди. Три раза на протяжении своего сочинения Цицерон вступает с римскими аттицистами в открытый спор. В первый раз он выступает против исторических спекуляций аттицистов: наполовину иронически, наполовину серьезно он показывает, что с точки зрения концепции упадка и возрождения аттицистам следовало бы возрождать в римском красноречии стиль не грека Лисия, а римлянина Катона; и если они в своей утонченности этого не делают, то это значит, что их концепция к истории римского красноречия неприменима (63-70). Во второй раз он выступает против теоретических убеждений аттицистов, против их ученого снобизма и пренебрежения к вкусам толпы: Цицерон утверждает, что оратор тем и отличается от других писателей и мыслителей, что должен иметь дело не со знатоками, а с толпой, и если он не хочет или не может увлечь толпу, то он – не настоящий оратор, как бы высоко ни ценили его ученые критики: истинное красноречие – всегда только то, которое одинаково нравится и народу и знатокам (183-200). Наконец, в третий раз он делает окончательный вывод из этих двух положений: аттицисты не имеют права именовать себя аттицистами, потому что они не умеют ни выбрать образец, ни подражать ему: они подражают сухости Лисия, забывая о полноте и силе Демосфена; они подражают Фукидиду, забывая, что сам Фукидид, живи он столетием позже, писал бы пространней и мягче; тем самым безмерно суживается их представление об аттическом красноречии: они не более достойны зваться аттицистами, чем пресловутый Гегесий, который ведь тоже считал себя подражателем Лисия (283-291). Эти три полемических отступления – в начале, середине и конце сочинения – достаточно напоминают читателю о критической установке трактата. Итак, развитие римского красноречия определяется, по Цицерону, прежде всего внутренними причинами – широтой и глубиной усвоения греческой культуры; сам Цицерон представляет вершину этого развития, аттицизм – неразумное отклонение от общего пути этого развития. Однако Цицерон не оставляет без внимания и внешних, политических обстоятельств развития красноречия; ему, опытному политику, значение этих обстоятельств хорошо известно. Он не забывает упомянуть ни об учреждении постоянно действующих судов при Гракхах, ни об установлении закрытого голосования в судах (106); он называет законопроект Мамилия 110 г. и закон Вария 90 г., повлекшие за собой особенно много судебных процессов (127-128, 205, 304); он говорит и о недавнем законе Помпея 52 г., ограничившем число защитников и продолжительность речей в суде (243, 324). Красноречие для Цицерона – по-прежнему не самоцель, а лишь форма политической деятельности, и судьба красноречия неразрывно связана с судьбой государства. "Ни те, кто заняты устроением государства, ни те, кто ведут войны, ни те, кто покорены и скованы царским владычеством, неспособны воспылать страстью к слову. Красноречие – всегда спутник мира, товарищ покоя и как бы вскормленник благоустроенного государства" (45). Читатель книг "Об ораторе" и "О государстве", конечно, уловит в этих словах тоску Цицерона о том идеальном государственном деятеле, который своим словом сплотил бы народ вокруг вожделенного "согласия сословий", этого залога общественного мира. Современность тем и страшна для Цицерона, что оружие красноречия служит уже не гражданскому миру, а гражданской войне, и влиянием на государственные дела пользуются не люди разумные и красноречивые, а коварные интриганы (7, 157). Свой разговор об истории римского красноречия Цицерон, Брут и Аттик завязывают именно затем, чтобы отвлечься мыслью от безотрадных событий современности; но горькая участь ораторов недавнего прошлого все время напоминает им о бедствиях настоящего, и осторожному Аттику приходится сдерживать слишком опасные повороты разговора (157, 251). Лучшие ораторы Рима гибнут в гражданской войне (227, 266, 288, 307, 311), другие оказываются в изгнании (250-251), третьи вынуждены молчать, форум безмолвствует, красноречие бессильно, и будущее сулит еще горшие несчастья (266, 329). Смерть Гортензия, последнего в ряду великих ораторов прошлого, старшего современника, соперника и друга Цицерона, представляется на этом фоне символической. Цицерон скорбит о смерти талантливого человека в эту пору, когда государство так оскудело талантливыми людьми; но он признает, что Гортензий умер вовремя, что даже если бы он остался жив, он мог бы лишь оплакивать беды государства, но был бы бессилен им помочь (1-4). Гортензий, предтеча Цицерона, смолкнул после того, как прошел свой ораторский путь до конца; сам Цицерон вынужден смолкнуть на середине своего пути; наследник Цицерона, Брут, от которого Цицерон ждет еще большей славы для римского красноречия, смолкает в самом начале своего пути к славе и должен искать утешения в философии (329-333). Роковым образом внешние причины приводят римское красноречие к гибели в то самое время, когда внутреннее развитие приводит его к расцвету. В этом – жестокий трагизм участи латинского слова. Эта трагическая атмосфера пронизывает весь диалог, придавая значительность и важность даже такому событию, как спор о стиле между Цицероном и аттицистами.
Когда Цицерон писал диалог "Об ораторе", он не предполагал, что вернется к этому предмету вновь. Тема "Об ораторе" была для него лишь подступом к теме "О государстве", и красноречие занимало его лишь как средство политики. Однако не прошло и десяти лет, как ему вновь пришлось обратиться к обсуждению теории красноречия, и на этот раз безотносительно к политике, с точки зрения эстетической по преимуществу. Так явились трактаты "Брут" и "Оратор", почти тотчас один после другого, перекликающиеся друг с другом и дополняющие друг друга. В них получают развитие те же мысли, какие были высказаны в диалоге "Об ораторе", но в новых обстоятельствах они приобретают новое значение. "Брут" и "Оратор" были написаны в 46 г., в течение первого года по возвращении Цицерона в Рим. Это был год окончательного торжества Цезаря: в апреле он разбил в Африке последнее войско помпеянцев во главе со Сципионом и Катоном, в июне вернулся в Рим, в августе справил неслыханный по великолепию четверной триумф, конец года посвятил законодательству и административным реформам. Цицерон все это время жил в Риме, в двусмысленном положении прощенного помпеянца, скорбным созерцателем гибели республики и робким заступником перед победителем за побежденных: в сентябре 46 г. им произнесена перед Цезарем благодарственная речь за прощение Марцелла, в промежутке между "Брутом" и "Оратором" им написана похвала Катону, идейному вождю республиканцев, покончившему самоубийством в Африке после победы Цезаря. Политическая роль Цицерона была уже сыграна, это понимали все, и он сам в первую очередь. У него оставалось единственное утешение – слава первого оратора своего времени. Тем болезненнее он почувствовал, что и эта его слава была под угрозой. С молодых лет Цицерон выработал свой идеал красноречия, стремился к нему и считал, что близок к его достижению. А теперь, вернувшись в Рим после четырехлетнего отсутствия, он увидел, что на смену его поколению выдвинулось новое, не разделявшее его ораторских идеалов и искавшее иного совершенства. Во главе этих новых на форуме людей стояли Лициний Кальв, талантливый поэт и темпераментный оратор, и Марк Юний Брут, уже знакомый нам молодой друг Цицерона; к ним примыкали Марк Калидий, Квинт Корнифиций, Азиний Поллион, все личные знакомые Цицерона и по большей части цезарианцы. Им было по тридцать-сорок лет; называли они себя "аттиками". Чтобы понять происхождение этого течения, которое принято называть аттицизмом, следует вернуться лет на сто назад, в мир греческой риторики эпохи эллинизма. Мы помним, что в риторической школе эпохи эллинизма преподавание держалось на двух основах: на изучении риторической теории и на изучении образцов – аттических ораторов V-IV вв. Риторическая теория изменялась с изменением вкусов и требований современности, помогая ученикам создавать все более пышные и велеречивые произведения; образцы оставались неизменными в своем классически ограниченном величии. С течением времени разрыв между эстетикой теории и эстетикой образцов становился все сильнее и в языке, и в стиле, и в тематике красноречия. Художественное чувство античности ощущало такой разрыв крайне болезненно. Традиционализм всегда был самой характерной чертой античного искусства, по крайней мере, у его теоретиков: эстетический идеал виделся ему не впереди, а позади, вместо поисков оно призывало к подражанию, имена классиков каждого жанра окружались почти религиозным почитанием, и поэты воспроизводили язык и стиль Гомера, Софокла и Пиндара с такой точностью, которая показалась бы нам стилизацией. Искания и эксперименты дозволялись лишь в тех жанрах, которые не были еще освящены классическими художественными образцами. Проза дольше, чем поэзия, сопротивлялась давлению традиции, так как проза была теснее связана с запросами действительности; но когда связь красноречия с жизнью ослабела, и художественное слово превратилось в искусство для искусства, тирания образцов распространилась и на нее. Произведения аттических прозаиков стали казаться единственно совершенными, а все последующие памятники стиля – искажением и извращением. Подражания Лисию, Платону и Демосфену были удостоены почетного имени "аттицизма", а традиции эллинистической прозы заклеймены презрительной кличкой "азианства". Органическое развитие классики подменилось ее догматизацией. Вместо живого художественного чувства основой творчества стала педантически тщательная ученость, отмечающая "аттические" особенности образца и воспроизводящая их в подражании. Аттицизм был созданием теоретизирующих эстетов в эллинистических культурных центрах, ученой модой, доступной лишь узкому кругу ценителей. В дни Цицерона это была еще спорная новинка, и только в следующем после него поколении, при Дионисии Галикарнасском и Цецилии Калактинском он получил широкое признание в греческом мире. На римской почве судьба его была иной. Строго говоря, аттицизм вообще не мог быть воспроизведен в латинской речи: языковый пуризм аттицистов, провозглашавших отказ от современного греческого языка и возвращение к аттическому диалекту трехвековой давности, понятным образом, не мог быть перенесен в латинский язык; принцип возврата к древним образцам через голову новейших также был неуместен в латинском красноречии, где древних образцов, по существу, не было вовсе. Однако тех молодых римлян, которые так неожиданно и торопливо провозгласили себя аттицистами, пленяло в греческом учении совсем не это. Им нравился более всего самый дух учености, труднодоступного искусства, умственного аристократизма, проникавший реставраторские изыскания греческих риторов. Это было поколение, вступившее в политическую жизнь Рима уже после того, как террор Мария и Суллы оборвал преемственность древних республиканских традиций; заветы Сципиона, Сцеволы и Красса для них уже не существовали, и на агонию республики они смотрели не с болью, как Цицерон, а с высокомерным равнодушием. От политических дрязг они уходили в личную жизнь, в искусство и в науку; чем меньше общего имели их занятия с интересами форума, тем дороже им были эти занятия. Такова была ученая и любовная поэзия Катулла и Кальва, подражавшая изысканнейшим александрийским образцам, такова была философия Лукреция с ее аполитизмом и пафосом чистой науки, таковы были их исследования в области грамматики (так называемый аналогизм, о котором нам еще придется говорить), права, энциклопедических наук и т.д. Аттицизм в красноречии также был одной из форм этого протеста против современности. Вовсе отстраниться от политической жизни молодые римляне не могли, да, пожалуй, и не хотели; но снисходить в своих речах до угождения вкусам толпы было ниже их достоинства (если не говорить о таких ораторах, как Целий или Курион, в своем презрении к вырождавшейся республике доходивших до крайнего политического авантюризма). Пышная выразительность гортензиевского и цицероновского слога им претила. Вместо чувств слушателей, они обращались к их разуму, вместо полноты и силы искали простоты и краткости. К этому их толкала и философия, которую они исповедовали: стоицизм с его культом логики и отрицанием страстей и эпикурейство, осуждавшее всякую заботу о художественности речи. Поэтому аттицизм греческих теоретиков в восприятии римских практиков претерпел любопытные изменения: если у греков в ряду аттических образцов выше всего ставилось развитое искусство Демосфена (как мы увидим впоследствии у Дионисия Галикарнасского), то для римлян на первый план выдвинулась старинная безыскусственность Лисия и (с натяжками) Фукидида. Благозвучие словосочетаний, периодический строй, ритм – все это казалось уже позднейшими ухищрениями, недостойными истинного "аттика"; и писатели, приверженные к такого рода изяществу речи, клеймились именем "азианцев". Первым среди них, разумеется, был Цицерон. Тацит и Квинтилиан сохранили память о тех нападках, какими осыпали Цицерона римские аттицисты. Тацит пишет: "Хорошо известно, что даже у Цицерона не было недостатка в хулителях, которым он казался надутым, напыщенным, недостаточно сжатым, не знающим меры, многословным и мало аттическим. Вы, конечно, читали письма Кальва и Брута к Цицерону, из которых легко увидеть, что Кальв казался Цицерону бескровным и сухим, Брут – вялым и несвязным, но и Цицерон в свою очередь подвергался нареканиям от Кальва за расплывчатость и бессилие, а от Брута (по его собственным словам) за изломанность и развинченность". Квинтилиан подтверждает: "Современники дерзали даже нападать на него как на оратора азианского, напыщенного, не в меру обильного, излишне щедрого на повторения, подчас холодного в шутках, изломанного в построении речи, тщеславного и чуть ли не женоподобного (что было ему совершенно несвойственно); в особенности набрасывались на него те, которые желали казаться подражателями аттиков". Конечно, Цицерон не мог примириться с таким отношением к его эстетической программе и к его ораторским достижениям. Едва освоившись с новым положением в Риме, он начинает полемику против аттицистов. Обстоятельства складывались для него благоприятно: в 47 г. скончались Калидий и Кальв, еще раньше погибли в гражданской войне Курион и Целий, и теперь вождем аттицизма бесспорно оставался Брут, близкий друг и политический единомышленник Цицерона, глубоко уважавший старого оратора. Цицерон мог надеяться, что ему удастся убеждением отвратить Брута от аттицизма и сделать его своим наследником в искусстве величественного традиционного стиля. К Бруту Цицерон обращает оба свои сочинения 46 г.: в "Бруте" он выступает собеседником, в "Ораторе" – адресатом. Цель этих сочинений – обосновать законность и превосходство того ораторского идеала, пути к которому Цицерон указал в диалоге "Об ораторе". Обоснование двоякое: с точки зрения исторической в "Бруте", с точки зрения теоретической в "Ораторе". "Брут" был написан раньше, хотя по содержанию он был менее важен для Цицерона, чем "Оратор". По-видимому, лишь случайное обстоятельство побудило Цицерона взяться в первую очередь за историю, а не за теорию красноречия. Друг Цицерона, Аттик, только что закончил "Летопись" – небольшой исторический труд, о котором Цицерон упоминает не раз и с неизменным восхищением. Если бы этот труд дошел до нас, вряд ли мы разделили бы восторг Цицерона; по-видимому, это была простая хронологическая таблиц с указанием имен магистратов каждого года и важнейших событий римской (а отчасти и греческой) истории, случившихся в эти годы. Однако нужно вспомнить все несовершенство древнего летосчисления, которое не знало последовательной нумерации годов и поэтому сталкивалось с постоянными трудностями при расчете промежутков между событиями и с еще большими – при синхронистических сопоставлениях: тогда мы оценим значение книги Аттика для римских историков. Для Цицерона же она имела и другое значение. Римское красноречие было прежде всего красноречием политическим, и этот однообразный перечень консулов и преторов за пятьсот лет был в то же время перечнем ораторов, более значительных или менее значительных, память о которых жила в римском красноречии и на опыте которых учились молодые ораторы. Книга Аттика побудила Цицерона упорядочить свои юношеские воспоминания, расположить их в хронологической последовательности и обобщить мыслями о направлении развития римского красноречия и о его уроках. Так создался "Брут". Художественная форма "Брута" – диалог, но диалог не столь драматически разработанный, как в книгах "Об ораторе": в нем меньше платоновского и больше аристотелевского элемента (хотя и здесь фоном для разговора служит статуя Платона – "Брут", 24 – как в первой книге "Об ораторе" – платоновский платан). Действующие лица диалога – сам Цицерон, Брут и Аттик; но по существу их беседа представляет собой длинную лекцию Цицерона по истории ораторского искусства, лишь изредка в паузах перебиваемую репликами или дополнениями собеседников. План сочинения определяется материалом: это – хронологический обзор римских ораторов в последовательности их консульских или преторских дат (нарушаемой лишь сравнительно редко) с краткими характеристиками каждого. Для удобства обозрения материал более или менее отчетливо членится на несколько периодов, приблизительно соответствующих поколениям: время до Катона (53-60), время Катона (61-80), время Лелия и Гальбы (81-102), время Гракхов (103-138), время Красса и Антония (139-200), время Сульпиция и Котты (201-233), время Гортензия (233-329). Имя Гортензия служит как бы рамкой и хронологическим рубежом повествования: сожалением о его недавней смерти (в 50 г.) начинается книга Цицерона, рассуждением о его красноречии она кончается. Ораторов, которые еще живут и здравствуют, Цицерон намеренно не касается: исключение сделано лишь для Цезаря и Марцелла, да и то лестная речь о Цезаре вложена в уста Аттика. Периоды, намеченные Цицероном, довольно обширны, поэтому внутри них он подробно останавливается лишь на более видных ораторах, а второстепенных перечисляет небольшими группами; иногда группировка производится по какому-нибудь явному признаку (ораторы-стоики, 117-121; ораторы неримского происхождения, 169-172; ораторы, погибшие в гражданской войне, 265-269), но часто – просто для легкости изложения. Вступлением к обзору римского красноречия служит очень краткий обзор греческого красноречия (26-38) с хронологическим сопоставлением греческой и римской древности (39-51). Отступления в ходе повествования немногочисленны (если не считать попутных замечаний о хронологии, о подлинности текстов и т.п.). Выделяется лишь одно, с явным расчетом помещенное в самой середине сочинения – о соотношении суждений знатоков и публики (183-200). Общее число ораторов, перечисленных Цицероном в "Бруте" – свыше двухсот. Он намеренно старается упомянуть даже самых незначительных деятелей римского красноречия. Цель его при этом двоякая: во-первых, показать, что Рим всегда славился рвением к художественному слову (впрочем, он сам не очень всерьез принимает всю эту массу ораторов, однако свое скептическое к ним отношение высказывает не лично, а устами трезво мыслящего Аттика – см. 244 и 297); во-вторых, подчеркнуть, как много достойных граждан стремилось достичь идеала красноречия и сколь немногим это удавалось, – как мы помним, эта тема уже звучала во введении к диалогу "Об ораторе". Источниками для суждений Цицерона были, прежде всего, собственные речи ораторов, записанные и сохранившиеся. Не следует слишком доверять его словам, когда он говорит, что "отыскал и прочитал" сто пятьдесят речей Катона (165); но несомненно, что со своим неизменным интересом ко всему, что касалось красноречия, Цицерон читал их больше, чем кто-нибудь из его современников. Ценность таких речей была неодинакова: одни из них были записаны самими авторами, другие – скорописцами на форуме, некоторые сохранились лишь в конспектах (ср. 160, 164), были даже подложные речи (ср. 99, 205). Почти всех римских ораторов двух последних поколений Цицерон знал лично, видя и слыша их на форуме в течение сорока лет, и судил о них по собственным впечатлениям. Об ораторах предыдущих двух поколений Цицерон мог в юности слышать подробные рассказы от Сцеволы, Красса и других старших современников: "Мы утверждаем это, опираясь на воспоминания отцов", – ссылается он в одном месте (104 – о талантах Тиберия Гракха и Карбона). Характерно, что говоря о тех ораторах, которых он видел собственными глазами, Цицерон никогда не упускает случая упомянуть об их внешности, голосе и жестах, тогда как о более ранних ораторах ему удается это сообщить лишь в редких случаях. Красноречие догракховского времени известно Цицерону лишь по писанным речам, а красноречие докатоновского времени – лишь по догадкам. Из исторических сочинений, содержавших важный для историка красноречия материал, Цицерон пользовался "Началами" Катона (где Катон приводил собственные речи – 66, 75, 89, 90) и "Анналами" Фанния (может быть, лишь в извлечении, сделанном Брутом – 81, ср. "К Аттику" XII, 5, 3); привлекал также стихи Энния (58), Луцилия (160, 172), Акция (72). Другие литературные источники Цицерона скрыты от нас обычной для диалога условной безличностью: "говорят", "известно", "мы слышали" и т.п. Историко-литературное значение "Брута" огромно. Это едва ли не единственное связное и полное сочинение по истории литературы, сохранившееся до нас от античности. Без этих заметок Цицерона, при всей их краткости и схематичности, наше представление о началах римской прозы было бы гораздо более смутным. Для Цицерона римское красноречие было предметом национальной гордости, и он был счастлив стать первым его историком. "Я воздал немалую хвалу римлянам в той нашей беседе, которую я изложил в "Бруте" как из любви к своим, так и из желания ободрить других", – писал он впоследствии ("Оратор", 23). Однако главная цель произведения заключалась не в этом. "Весь этот наш разговор ставит целью не только перечисление ораторов, но и некоторые наставления", – признается он в конце диалога (319). "Брут" – сочинение прежде всего критическое и полемическое. Литературно-критическая направленность "Брута" видна прежде всего в многочисленных оценках отдельных ораторов. Здесь Цицерон наименее оригинален. Его критерии соответствуют традиционной системе школьной риторики: "дарование – ученость – усердие" (22, 92, 98, 110, 125 и др.), "красноречие совещательное – красноречие судебное" (112, 165, 178, 268 и др.), "нахождение – расположение – изложение – произнесение" (139-141, 202), "правильность – ясность – пышность – уместность" (там же), "убеждение – услаждение – волнение" (144-145, 202-203, 274); по рубрикам этой схемы раскладываются достоинства и недостатки каждого оратора; и лучшим показателем практичности этой выработанной веками схемы является то, что для каждого оратора она дает свое неповторяющееся сочетание характеристик. Разумеется, при вынужденной беглости обзора эта рубрикация все одних и тех же качеств делает характеристики бледными и монотонными. Избегая этого, Цицерон старается объединять важнейшие имена попарно, чтобы они оттеняли друг друга: так, в Лелии было больше изящества для убеждения, а в Гальбе больше силы для возбуждения волнения (89); Антоний был сильнее в произнесении, Красс – в подготовке речи (215); Котта отличался искусной сдержанностью, Сульпиций – патетической пылкостью (202-203) и т.д. В тех же профессиональных терминах оценивает Цицерон и отдельные речи своих ораторов (159-162, 194-198 и др.). Современный читатель, который требует от критики прежде всего выявления индивидуальности и внутреннего единства писательского творчества, может остаться не удовлетворен подобными характеристиками; но следует помнить, что Цицерон пишет не серию литературных портретов, а обзор развития красноречия, и черты общего для него важнее, чем черты индивидуального. В самом деле, если присмотреться к цицероновским характеристикам, то легко увидеть предмет преимущественного внимания Цицерона. Это – соотношение таланта, учености и упражнения, тот же вопрос, который был поставлен в первой книге "Об ораторе". Действительно, Цицерон заботливо отмечает все условия, влиявшие на формирование оратора: домашнее воспитание и семейные традиции (108, 210, 211, 213), диалектное окружение (170, 171), имена наставников (101, 104, 114, 245, 263), научный кругозор (81, 94, 175 и др.) или отсутствие такового (213-214). Развитие римского красноречия есть следствие распространения культуры в римском обществе – такова основная мысль Цицерона, которую он старается иллюстрировать всем ходом своего изложения. Большие дарования всегда были среди римских ораторов; но то, что дарованием достигается случайно и наугад, с помощью науки может быть достигнуто легче и наверняка. До Катона римское красноречие было вполне стихийным; Катон первый стал уделять художественной стороне красноречия особое внимание. Лелий и за ним Гай Гракх впервые сочетали римское красноречие с греческой философией. Рутилий Руф последовал за ними, но выбрал неправильный путь и застыл в стоических тонкостях; правильный путь нашли Антоний и Красс, в творчестве которых римское красноречие достигает высшего блеска. Путь к дальнейшему совершенствованию открыт, и углубление философской мудрости красноречия сулит ораторам большие удачи; правда, Котте и Сульпицию для этого не хватало полноты дарования, а Гортензию – постоянства и усердия, но тот оратор, который совместит в себе большой талант и большие познания во всех науках, несомненно достигнет идеального совершенства. Нет нужды добавлять, что в понимании Цицерона этот мастер, которому суждено достигнуть идеала, – сам Цицерон. Правда, в ходе диалога он неизменно уклоняется от разговора о самом себе (161-162, 322); но устами собеседников и упоминаемых лиц он достаточно часто высказывает лестные мнения о собственном таланте (123, 140, 150, 190, 254); а заканчивая книгу воспоминаниями о своей молодости, о научных занятиях и ораторских упражнениях (интереснейший образец "духовной автобиографии", едва ли не единственный в дошедшей до нас античной литературе), он явно желает дать конкретное представление о том общеобразовательном идеале, который должен найти воплощение в совершенном ораторе. Таким образом, Цицерон в своей истории красноречия рисует продуманную картину исторического прогресса и постепенного восхождения от ничтожества к совершенству. "Ничто не начинается с совершенства", – заявляет он, и подтверждает это примерами из истории литературы и искусства (69-73, ср. 26-36 и 296). Он относится к древности с глубоким почтением, но не как к живому образцу, а как к музейному памятнику; он готов допустить даже подражание Катону, но лишь при условии, чтобы были исправлены и улучшены все несовершенства Катона, очевидные современному взгляду (69; "я не столько порицаю древность за то, чего в ней нет, сколько хвалю за то, что в ней есть", – скажет он потом в "Ораторе", 169). Эта концепция прогресса – прямая противоположность той концепции упадка и искусственного возрождения, которой придерживались аттицисты. Цицерон согласен, что за достигнутым совершенством наступает упадок, как это случилось в Афинах после Демосфена и Эсхина; но римское красноречие, по его мнению, еще не достигло своей вершины, и поэтому говорить об упадке рано: золотой век римского слова не позади, а впереди. Три раза на протяжении своего сочинения Цицерон вступает с римскими аттицистами в открытый спор. В первый раз он выступает против исторических спекуляций аттицистов: наполовину иронически, наполовину серьезно он показывает, что с точки зрения концепции упадка и возрождения аттицистам следовало бы возрождать в римском красноречии стиль не грека Лисия, а римлянина Катона; и если они в своей утонченности этого не делают, то это значит, что их концепция к истории римского красноречия неприменима (63-70). Во второй раз он выступает против теоретических убеждений аттицистов, против их ученого снобизма и пренебрежения к вкусам толпы: Цицерон утверждает, что оратор тем и отличается от других писателей и мыслителей, что должен иметь дело не со знатоками, а с толпой, и если он не хочет или не может увлечь толпу, то он – не настоящий оратор, как бы высоко ни ценили его ученые критики: истинное красноречие – всегда только то, которое одинаково нравится и народу и знатокам (183-200). Наконец, в третий раз он делает окончательный вывод из этих двух положений: аттицисты не имеют права именовать себя аттицистами, потому что они не умеют ни выбрать образец, ни подражать ему: они подражают сухости Лисия, забывая о полноте и силе Демосфена; они подражают Фукидиду, забывая, что сам Фукидид, живи он столетием позже, писал бы пространней и мягче; тем самым безмерно суживается их представление об аттическом красноречии: они не более достойны зваться аттицистами, чем пресловутый Гегесий, который ведь тоже считал себя подражателем Лисия (283-291). Эти три полемических отступления – в начале, середине и конце сочинения – достаточно напоминают читателю о критической установке трактата. Итак, развитие римского красноречия определяется, по Цицерону, прежде всего внутренними причинами – широтой и глубиной усвоения греческой культуры; сам Цицерон представляет вершину этого развития, аттицизм – неразумное отклонение от общего пути этого развития. Однако Цицерон не оставляет без внимания и внешних, политических обстоятельств развития красноречия; ему, опытному политику, значение этих обстоятельств хорошо известно. Он не забывает упомянуть ни об учреждении постоянно действующих судов при Гракхах, ни об установлении закрытого голосования в судах (106); он называет законопроект Мамилия 110 г. и закон Вария 90 г., повлекшие за собой особенно много судебных процессов (127-128, 205, 304); он говорит и о недавнем законе Помпея 52 г., ограничившем число защитников и продолжительность речей в суде (243, 324). Красноречие для Цицерона – по-прежнему не самоцель, а лишь форма политической деятельности, и судьба красноречия неразрывно связана с судьбой государства. "Ни те, кто заняты устроением государства, ни те, кто ведут войны, ни те, кто покорены и скованы царским владычеством, неспособны воспылать страстью к слову. Красноречие – всегда спутник мира, товарищ покоя и как бы вскормленник благоустроенного государства" (45). Читатель книг "Об ораторе" и "О государстве", конечно, уловит в этих словах тоску Цицерона о том идеальном государственном деятеле, который своим словом сплотил бы народ вокруг вожделенного "согласия сословий", этого залога общественного мира. Современность тем и страшна для Цицерона, что оружие красноречия служит уже не гражданскому миру, а гражданской войне, и влиянием на государственные дела пользуются не люди разумные и красноречивые, а коварные интриганы (7, 157). Свой разговор об истории римского красноречия Цицерон, Брут и Аттик завязывают именно затем, чтобы отвлечься мыслью от безотрадных событий современности; но горькая участь ораторов недавнего прошлого все время напоминает им о бедствиях настоящего, и осторожному Аттику приходится сдерживать слишком опасные повороты разговора (157, 251). Лучшие ораторы Рима гибнут в гражданской войне (227, 266, 288, 307, 311), другие оказываются в изгнании (250-251), третьи вынуждены молчать, форум безмолвствует, красноречие бессильно, и будущее сулит еще горшие несчастья (266, 329). Смерть Гортензия, последнего в ряду великих ораторов прошлого, старшего современника, соперника и друга Цицерона, представляется на этом фоне символической. Цицерон скорбит о смерти талантливого человека в эту пору, когда государство так оскудело талантливыми людьми; но он признает, что Гортензий умер вовремя, что даже если бы он остался жив, он мог бы лишь оплакивать беды государства, но был бы бессилен им помочь (1-4). Гортензий, предтеча Цицерона, смолкнул после того, как прошел свой ораторский путь до конца; сам Цицерон вынужден смолкнуть на середине своего пути; наследник Цицерона, Брут, от которого Цицерон ждет еще большей славы для римского красноречия, смолкает в самом начале своего пути к славе и должен искать утешения в философии (329-333). Роковым образом внешние причины приводят римское красноречие к гибели в то самое время, когда внутреннее развитие приводит его к расцвету. В этом – жестокий трагизм участи латинского слова. Эта трагическая атмосфера пронизывает весь диалог, придавая значительность и важность даже такому событию, как спор о стиле между Цицероном и аттицистами.
МИФОЛОГИЯ



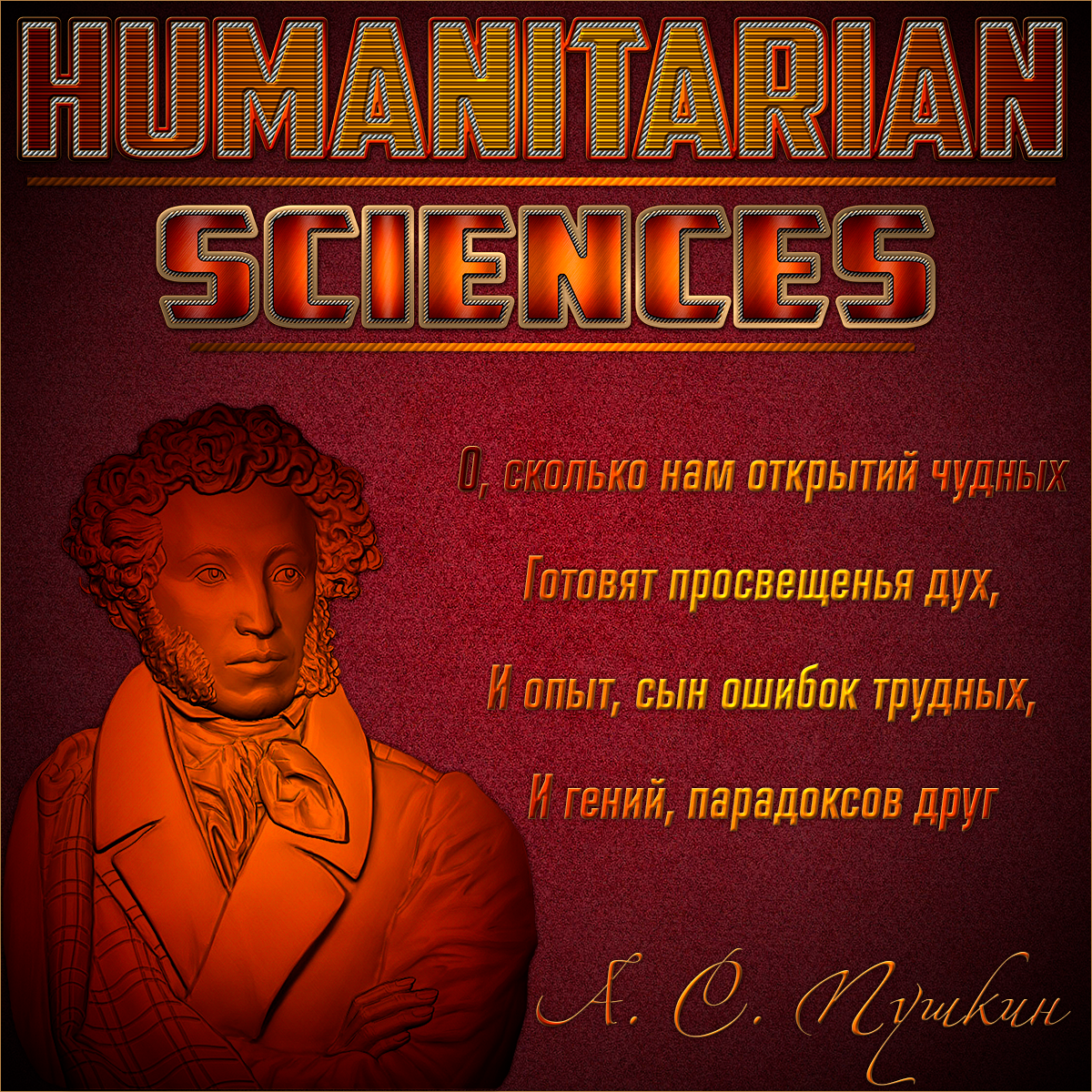











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ


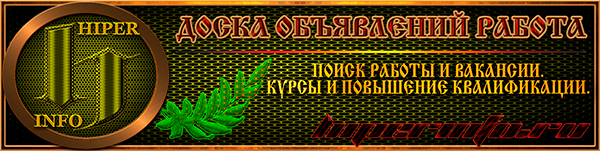

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Теги
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.