- 100150 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
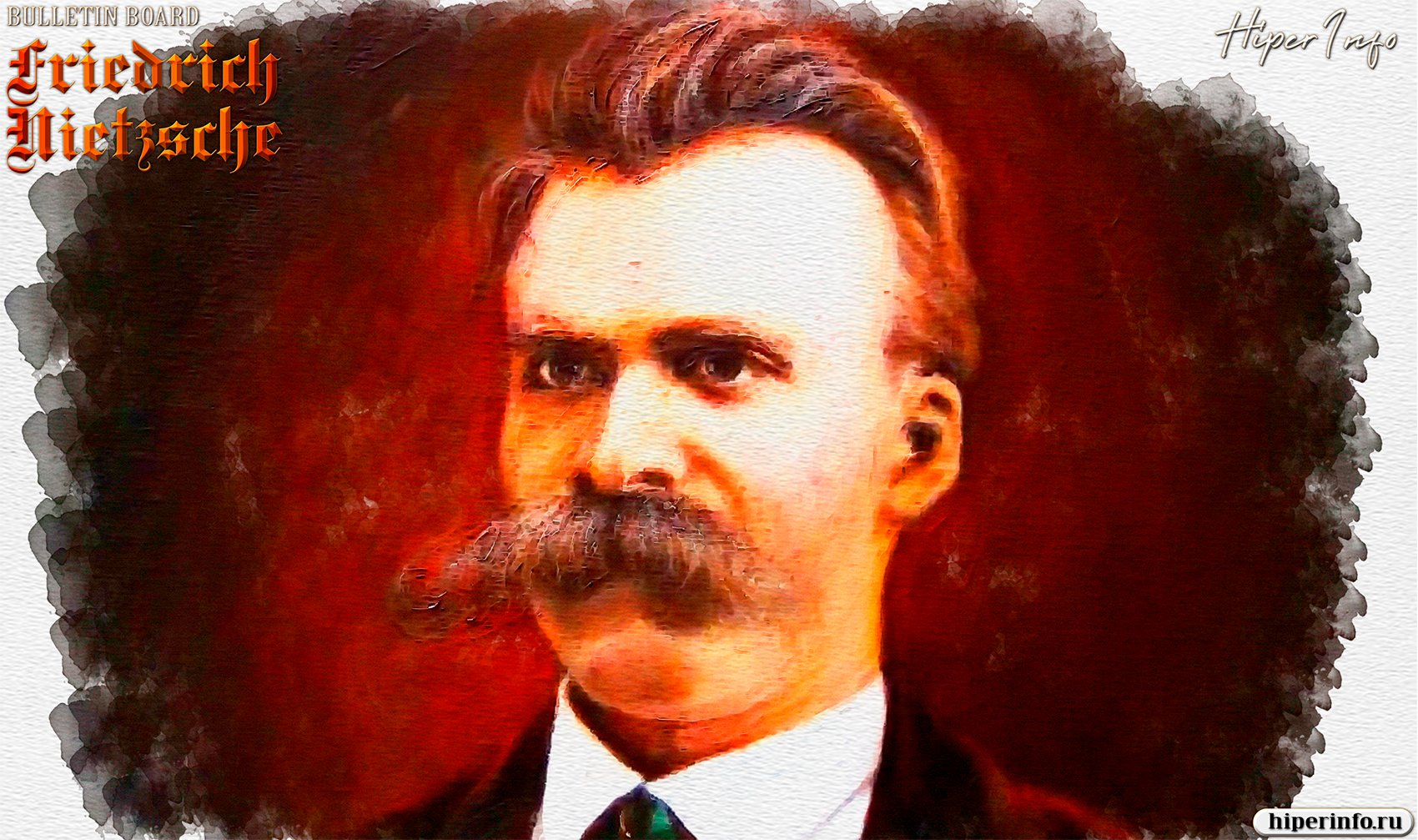
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




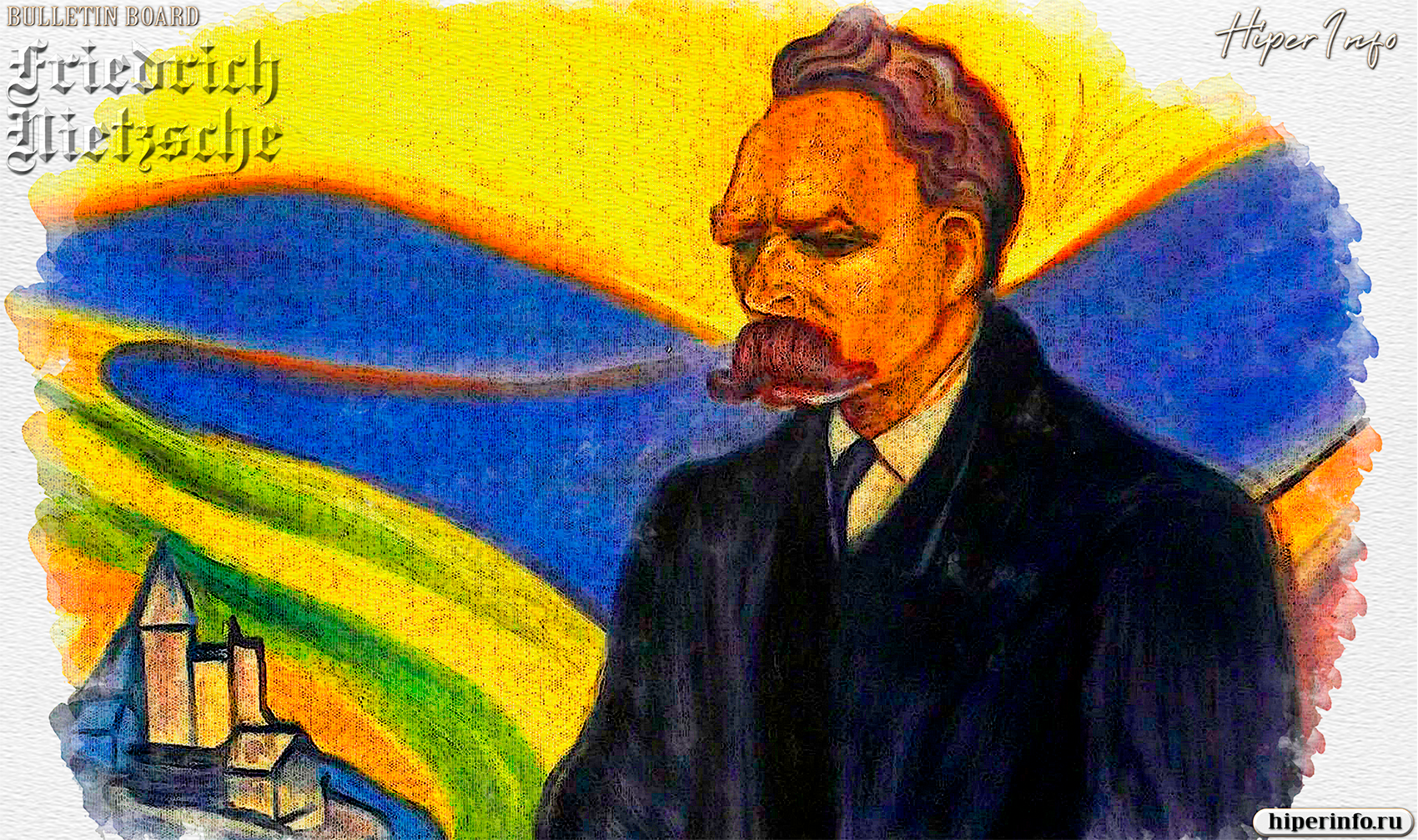




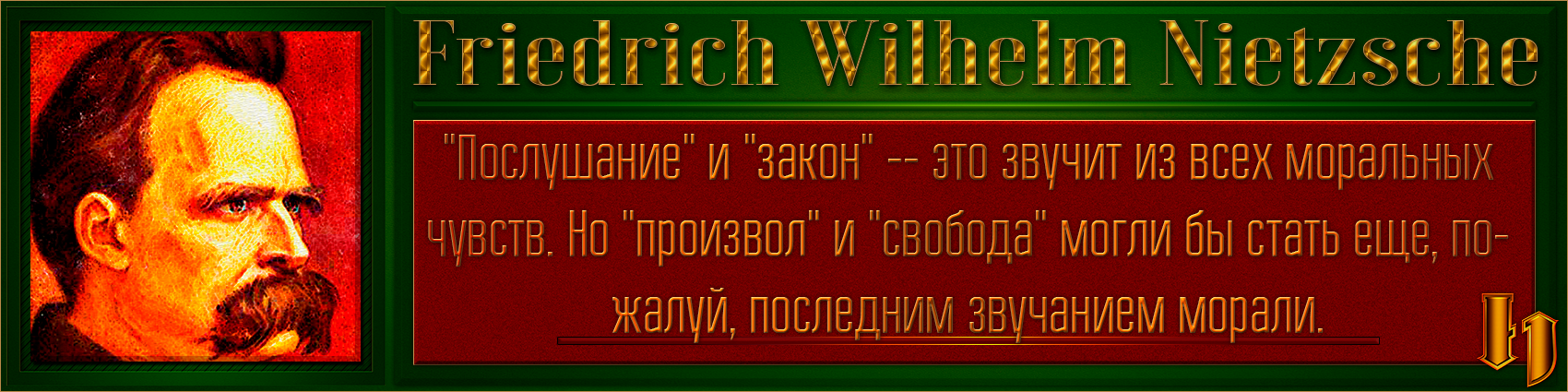


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ВОЛЯ К ВЛАСТИ
ОПЫТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ

— восстание против господствующей духовной власти; — попытка сделать добродетели, при которых возможно счастье самых ничтожных, последних людей, непререкаемым идеалом всех ценностей, — и назвать это Богом: инстинкт самосохранения беднейших, самых жизненно-скудных слоёв; — попытка, исходя из идеала, оправдать абсолютное воздержание от войны и сопротивления, — равно как и послушание; — любовь между людьми как следствие любви к богу. Главная уловка: все природные mobilia [81] отрицать и обращать в духовно-потустороннее... добродетель и почитание оной присвоить всецело и только для себя, шаг за шагом отспаривая её у всего нехристианского. 186 Глубочайшее презрение, с которым сохранивший благородство античный мир относился к христианам, имеет те же корни, что и сегодняшняя инстинктивная неприязнь к евреям: это ненависть свободных и знающих себе цену сословий к тем, кто норовит протиснуться, скрывая за пугливой и неуклюжей повадкой непомерное самомнение. Новый Завет — это евангелие {151} людей абсолютно неблагородного сорта; в их притязаниях на собственную значимость, притом значимость единственно истинную, и вправду есть что-то возмутительное, — даже сегодня. 187 Как мало значит сам предмет! Дух — вот что вносит в него жизнь! Каким недужным, спёртым воздухом веет от всех этих возбуждённых пустословий о «спасении», любви, «блаженстве», вере, истине, «вечной жизни»! И напротив, стоит взять истинно языческую книгу, допустим, Петрония, — книгу, где, по сути, нет ни единого слова, поступка, желания, суждения, которое по ханжеским христианским меркам не было бы грехом, даже смертным грехом. И однако — какая же благодать в чистоте этого воздуха, в духовном превосходстве этой лёгкой победительной поступи, этой высвобожденной, избыточной, уверенной в своём будущем силы! Во всём Новом Завете ни одной буффонады: но ведь этим любая книга сама себя загубит! 188 Крайняя низость, с которой осуждается всякая иная жизнь, кроме христианской: им мало просто очернить в мыслях своих противников, нет, они хотят, ни больше ни меньше, оклеветать всё, что не есть они сами... С высокомерием святости наилучшим образом уживается низкая и лукавая душонка; свидетельство — первые христиане. Будущее: они ещё заставят всех как следует за это раскошелиться... Это дух самого нечистоплотного разбора, какой только есть. Недаром вся жизнь Христа изображается таким образом, будто он помогает сбыться предсказаниям: он специально действует так, чтобы они сбылись... 189 Лживое истолкование слов, жестов, душевных состояний умирающих: к примеру, страх смерти начисто подменяется страхом перед «загробной жизнью»... 190 И христиане делали это в точности так же, как иудеи: всё, что они воспринимали как необходимое условие существования или как важное новшество, они вкладывали в уста своему учителю и приукрашивали этим его жизнь. Точно так же и всю изустную мудрость своих пословиц и поговорок они вложили ему в уста: короче, свою действительную жизнь во всём её суетном течении они представили как послушание и тем освятили её для своей пропаганды. С чего на самом деле всё пошло, это хорошо видно у Павла — и это сущая малость. Всё остальное — это создание типа святого из того, что у них почиталось святым. Всё «чудесное учение», включая чудо воскресения, есть прямое следствие самовозвеличения общины, которая всё, на что была способна сама, в ещё большей мере приписывала своему учителю (то есть из него свою силу выводила...) 191 Христиане никогда не практиковали того, что им предписывал Иисус: вся их бесстыжая болтовня об «оправдании верой» и о высшем и первейшем значении веры есть только следствие того, что церковь никогда не имела в себе ни мужества, ни воли присягнуть делам, которых требовал Иисус. Буддист действует иначе, чем не-буддист; христианин действует как все люди, а христианство у него лишь для церемоний и настроений. Глубочайшая и презренная изолганность христианства в Европе: мы, действительно, поделом заслуживаем презрения арабов, индусов, китайцев... Только прислушайтесь к речам первого государственного мужа Германии о том, что занимало Европу последние сорок лет... — и вы услышите голос придворного проповедника Тартюфа {152}. 192 «Вера» или «дела»? — Но то, что вместе с «делом», вместе с привычкой к определённым делам зачинается и определённая оценка и в конечном счёте образ мыслей, это так же естественно, как противоестественно предположить, что из голой оценки могут воспоследовать «дела». Человеку надобно упражняться — и не в усилении своих ценностных эмоций, а в действовании; сперва надо уметь что-то делать... Христианский дилетантизм Лютера {153}. Вера — главная и спасительная опора. А подоплёка тут — глубокая убеждённость Лютера и ему подобных в их неспособности к христианским делам, то есть факт личной биографии, задрапированный глубочайшим сомнением в том, не есть ли всякое деяние грех и от лукавого: так что в итоге весь смысл существования сосредотачивается на отдельных, хотя и крайне напряжённых, состояниях бездействия (молитва, благоговение и т. д.). — В итоге он даже оказался прав: инстинкты, выражающиеся во всех деяниях реформации, — из самых жестоких, какие только есть на свете. Только в абсолютном отвлечении от самих себя, в погружении в прямую свою противоположность, только как иллюзию («веру») они и могли своё существование вынести. 193 — «Что делать, чтобы уверовать?» — Абсурдный вопрос. Главный изъян христианства — это воздержание от всего того, что Иисус повелел делать. Это убогая жизнь, но истолкованная с презрением во взгляде. 194 Вступление в истинную жизнь — ты спасаешь свою личную жизнь от смерти, живя жизнью всеобщей. 195 Христианство превратилось в нечто в корне отличное от Того, что делал и чего хотел его основатель. Это великое антиязыческое движение древности, сформулированное с использованием жизни, учения и «слов» основателя христианства, однако посредством абсолютно произвольной их интерпретации по шаблону диаметрально различных потребностей и в переводе на язык всех уже существующих подземных религий. Это приход пессимизма, тогда как Иисус хотел принести людям мир и счастье агнцев, — и притом пессимизма слабых, попранных, страдальцев, угнетённых. Их заклятый, смертный враг — это: 1. сила в характере, уме и вкусе; «мирское»; 2. классическое «счастье», благородная лёгкость и скепсис, несгибаемая гордость, эксцентрическое распутство и холодная самодостаточность мудреца, греческая утончённость в жесте, слове и форме; и римлянин, и грек им в равной мере — смертельный враг. Попытка антиязычества обосновать и осуществить себя в философии: его чутьё к двусмысленным фигурам древней культуры, прежде всего к Платону, этому инстинктивному семиту и антиэллину {154}... Равно как и чутьё к стоицизму, который в существенной степени тоже дело семитов («достоинство» как строгость и закон, добродетель как величие, как ответственность за себя, как авторитет, как высший суверенитет личности — всё это семитское: стоик — это арабский шейх, только в пелёнках греческих понятий). 196 Христианство только возобновляет борьбу, которая уже велась против классического идеала, против благородной религии. На самом деле всё это преобразование есть перевод на язык потребностей и уровень понимания тогдашней религиозной массы — той массы, которая поклонялась Изиде, Митре, Дионису, «великой праматери» и которая требовала от религии: 1. надежды на потустороннюю жизнь; 2. кровавой фантасмагории жертвенного животного — «мистерии»; 3. спасительного деяния, святой легенды; 4. аскетизма, отрицания мира, суеверного «очищения»; 5. иерархии как формы построения общины. Короче: христианство приспосабливается к уже существующему, повсюду нарождающемуся анти-язычеству, к культам, которые опроверг Эпикур... точнее, к религиям угнетённой массы, женщин, рабов, не-знатных сословий. В итоге же перед нами следующие недоразумения: 1. бессмертие личности; 2. мнимый иной мир; 3. абсурдность понятий преступления и наказания, поставленных в центр истолкования мира; 4. разбожествление человека вместо его обожествления, разверзание глубочайшей пропасти, которую можно преодолеть только чудом, только в прострации глубочайшего самопрезрения; 5. целый мир порочных представлений и болезненных аффектов вместо простой и полной любви житейской практики, вместо достижимого на земле буддистского счастья; 6. церковный порядок, с клиросом, теологией, культом, святынями; короче, всё то, против чего ратовал Иисус из Назарета; 7. чудеса везде и всюду, засилье суеверия: тогда как отличием иудаизма и древнейшего христианства было как раз их неприятие чуда, их относительный рационализм. 197 Психологическая предпосылка: незнание и бескультурье, невежество, напрочь забывшее всякий стыд — достаточно представить себе этих бесстыдных святых, и где — в Афинах: — иудейский инстинкт «избранничества» {155} (они без всяких церемоний присваивают себе все добродетели, а остальной мир считают своей противоположностью — верный знак низости души); — совершенное отсутствие действительных целей {156}, действительных задач, для решения которых требуются иные добродетели, кроме ханжества, — от этой работы их избавило государство; бесстыдный народец всё равно делал вид, будто государство здесь совершенно не причём. «Если не станете как дети» {157} — о, как же далеки мы ныне от этой психологической наивности! 198 Основателю христианства пришлось горько поплатиться за то, что он обращался к самым низким слоям иудейского общества и иудейского ума — ибо в итоге они перевоссоздали его по тому образу и подобию, который был доступен их разумению; это же настоящий позор — сфабриковать историю искупительного подвига, персонифицированного бога, персонифицированного спасителя, личное бессмертие и вдобавок сохранить все убожества «личности» и «истории» — из учения, которое отказывает всему личному и историческому в праве на реальность... Легенда об искупительном подвиге вместо символического сейчас и вечно, повсюду и здесь, чудо вместо психологического символа. 199 Нет ничего менее невинного, нежели Новый Завет. Хорошо известно, на какой почве он взрос. Этот народ, с несгибаемой волей к самому себе, народ, который, давно утратив всякую естественную опору и само своё право на существование, сумел тем не менее выжить, для чего ему пришлось утвердить себя на совершенно противоестественных, чисто умозрительных предпосылках (как избранный народ, как община святых, как народ пророчества, народ-«церковь»): этот народ практиковал pia fraus [82] с таким совершенством, с такой степенью «чистой совести», что впредь надо десять раз остеречься, заслышав, как этот народ проповедует мораль. Когда иудеи выступают в тоге невинности, значит, опасность и вправду велика: так что рекомендуется всегда иметь под рукой свой маленький запас рассудка, недоверия, злости, когда читаешь «Новый Завет». Люди самого низкого происхождения, порою просто сброд, изгои не только хорошего, но вообще всякого общества, достойного так называться, выросшие, не изведав даже запаха культуры, без воспитания, без знаний, не имея даже отдалённого понятия о том, что в духовной сфере может существовать совесть, но — иудеи: инстинктивно умные, со всеми суеверными предпосылками даже из невежества своего создать преимущество и извлечь соблазн. 200 Я рассматриваю христианство как самую роковую ложь соблазна, какая только была на свете, как великую и несвятую ложь: я выдёргиваю поросль и выскребаю плесень этого идеала из-под всех и всяческих облицовок, я отвергаю любые позиции в пол и в три четверти оборота к нему, — я принуждаю только к войне с ним. Нравственное сознание маленьких людей как мера всех вещей — это самое отвратительное вырождение из всех, какие до сей поры являла культура. И такого рода идеал продолжает висеть над человечеством! 201 Даже при самых скромных притязаниях на интеллектуальную чистоту невозможно, читая «Новый Завет», подавить позывы чего-то вроде невыразимого отвращения: ибо необузданная наглость этого желания самых непосвящённых говорить наравне с другими о великих вопросах, настырность их притязаний не только говорить, но и судить об этих вещах превосходит всякую меру. И эта беспардонная лёгкость, с которой здесь болтают о самых недоступных проблемах (жизнь, мир, бог, смысл жизни) — так, словно это никакие и не проблемы вовсе, а просто обычные вещи, о которых этой мелкой швали всё известно! 202 Это была самая роковая разновидность мании величия из всех, какие дотоле встречались на земле: когда это лживое, мелкое, неказистое отродье стало заявлять о своих исключительных притязаниях на слова «Бог», «страшный суд», «истина», «любовь», «мудрость», «дух святой» и с их помощью отмежёвываться от остального «мира»; когда такого разбора людишки начинают переиначивать все ценности под себя, словно это они смысл, соль, мерило и значение всего прочего, — тогда остаётся только одно: понастроить для них сумасшедших домов, и больше ничего не предпринимать. То, что их стали преследовать, было величайшей из античных глупостей: тем самым их приняли слишком всерьёз, а значит, и сделали из них нечто серьёзное. Всё это бедствие оказалось возможным, во-первых, потому, что сходная разновидность мании величия уже имелась на свете, а именно иудейская: коли уж пропасть между иудеями и христианами-иудеями однажды разверзлась, христиане-иудеи просто вынуждены были ту процедуру самосохранения, которую изобрёл иудейский инстинкт, запустить в ход снова и с последней степенью усиления — дабы сохраниться; во-вторых, потому, что, с другой стороны, греческая философия морали всё сделала для того, чтобы подготовить и сделать притягательным моральный фанатизм даже среди греков и римлян... Платон, этот великий соединительный мост распада, который первым ошибочно возжелал усмотреть природу в морали, который даже греческих богов своим понятием «добра» обесценил, который уже был заражён иудейской пошлостью (в Египте? {158}). 203 Эти мелкие стадные добродетели ведут к чему угодно, но только не к «вечной жизни»: вывести их на сцену подобным образом, а заодно и себя вместе с ними, было, возможно, и очень умным шагом, но для того, кто не утратил способность смотреть на вещи здраво, такое зрелище всё равно остаётся уморительнейшей из комедий. Невозможно заслужить никакого предпочтения ни на земле, ни на небе, достигнув совершенства в образе мелкого и милого овцеобразия; при этом ты в лучшем случае останешься мелкой, милой и абсурдной овцой с рожками — если, конечно, не лопнешь от непомерного тщеславия и не оскандалишься своими замашками верховного судии. Невероятная яркость красок, которыми расцвечены здесь все эти малые добродетели, — словно отблеск божественных качеств. Природная цель и полезность всякой добродетели замалчиваются начисто; добродетель имеет ценность только применительно к божественной заповеди, к божественному образцу, только применительно к потусторонним и духовным благам. (Великолепно: как-будто и впрямь речь идёт о «спасении души»; хотя это было всего лишь средство «выстоять» — с как можно более красивыми чувствами.) 204 Закон, этот основательно и реалистически сформулированный свод определённых условий сохранения общины, запрещает некоторые действия в определённом направлении, а именно, в той мере, в какой они обращены против этой общины; община не запрещает образ мыслей, из которого подобные действия проистекают, — ибо те же самые действия, обращённые в ином направлении, ей необходимы, а именно — против врагов данного людского сообщества. Но тут на сцену выходит моральный идеалист и заявляет: «Бог зрит прямо в сердце: действие само ещё ничего не значит; надо вытравить враждебные мысли, из которых оно проистекает...» В нормальных условиях над этим бы только посмеялись; и лишь в исключительных случаях, когда община живёт абсолютно вне всякого понуждения вести войны за своё существование, к таким вещам могут хоть как-то прислушаться. И дают ход умонастроению, полезность которого невозможно предугадать. Так было, например, при появлении Будды, внутри исключительно мирного и к тому же духовно утомлённого общества. Примерно то же самое имело место и с первой христианской (она же иудейская) общиной, предпосылкой к возникновению которой стал абсолютно аполитичный характер иудейского общества. Христианство могло вырасти только на почве иудаизма, то есть внутри народа, который в политическом отношении уже ни на что не притязал и вёл своего рода паразитарное существование внутри римского общественного уклада {159}. Христианство пошло ещё на один шаг дальше: можно было «оскопить» себя ещё сильней, благо обстоятельства позволяли. Говорить «любите врагов ваших» {160} можно, лишь изгоняя из морали природу, ибо после этого природное «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего» в законе (и инстинкте) теряет всякий смысл; значит, тогда и любовь к ближнему нужно обосновать по-новому (как своего рода любовь к богу). То есть повсюду подсовывается бог и изымается «полезность»: повсюду отрицается действительный исток всякой морали, а уважение к природе, суть которого именно в признании природного характера морали, изничтожается под корень. Откуда же берётся соблазн подобного оскоплённого идеала человечества? Почему он не претит нашему вкусу, как претит ему, допустим, представление о кастрате?.. Как раз в этом сравнении и кроется разгадка: голос кастрата нам ведь тоже не претит — невзирая на то ужасное увечье, которым этот голос обусловлен: ибо голос стал пленительней, слаще... За счёт того, что у добродетели вырезали все «мужские члены», её голос приобрёл женственное звучание, которого в нём раньше не было. С другой стороны, стоит подумать о той ужасной суровости, опасности и неисповедимости, которую привносит в жизнь наличие мужских добродетелей, — о жизни, какую ещё в наши дни ведёт корсиканец {161} или араб-язычник (и которая до мелочей схожа с жизнью корсиканца: даже песни эти могли бы сочинить корсиканцы), — и сразу понимаешь, до какой степени как раз самый грубый представитель человеческого рода может быть потрясён и захвачен вожделенным звучанием этого «добра» и этой «чистоты»... Пастушеский напев... идиллия... «добрый человек»: все эти образы сильнее всего действуют на воображение в те времена, [когда по улицам разгуливает трагедия]. * * * Но тем самым мы раскусили, до какой степени и сам «идеалист» (идеал-кастрат) происходит из совершенно определённой действительности и отнюдь не является просто наивным фантастом... Ибо он-то как раз приходит к познанию того, что для нужной ему реальности столь грубое предписание запрета на определённые действия не имеет никакого смысла (потому что инстинкт именно к таким действиям в нём ослаблен длительным отсутствием упражнений, отсутствием понуждения к упражнению). И тогда этот кастратист формулирует сумму новых условий существования и самосохранения для людей совершенно определённого вида: в этом он реалист. Средства для его самостатуирования те же самые, что и для более древних легислатур: апелляция ко всем и всяческим авторитетам, к «богу», использование понятия «вины и наказания», — то есть он пускает в ход весь инструментарий старого идеала, только в новом истолковании, — вину, например, представляет делом более сокровенным, внутренним (допустим, в виде угрызений совести). На практике подобная разновидность человека погибает, как только перестают наличествовать исключительные условия его существования — своего рода Таити, островное счастье, каким и была жизнь малоприметных евреев в провинции. Их единственный природный противник — это почва, из которой они произросли: против неё им приходится бороться, ради этой борьбы им приходится снова взращивать в себе аффекты нападения и обороны; их противники — приверженцы старого идеала (эта разновидность вражды великолепно представлена отношением Павла к иудейству, Лютера — к священническому аскетическому идеалу). Самую мягкую форму этого соперничества, безусловно, явили первые буддисты: пожалуй, ни на что не тратилось больше труда, чем на их стремление обескровить и ослабить враждебные чувства. Борьба против чувства вражды, похоже, становится чуть ли не первейшей задачей буддиста: лишь поборов это чувство, можно обрести мир в душе. Вызволиться — но без мстительной злобы: это, впрочем, предполагает удивительно размягчённую и подслащённую разновидность человечности — святость... * * * Хитрость морального кастратизма. — Как вести войну против мужских аффектов и оценок? Средств физического воздействия в распоряжении нет, значит, можно вести только войну хитростью, колдовством, ложью, — короче, войну «умственную». Рецепт первый: присвоить добродетель всецело и только своему идеалу; старый идеал отрицать, низводя его до противоположности всему идеальному. Здесь не обойтись без искусства клеветы. Рецепт второй: постулировать свой тип мерилом вообще всего; проецировать его на вещи, на тень вещей и их судьбу, на подоплёку судьбы — сделать его богом. Рецепт третий: представить противников своего идеала противниками бога, измыслить себе право на великий пафос, на власть, на проклятье и благословение. Рецепт четвёртый: все невзгоды, всю жуть, весь ужас и роковую бедственность существования выводить из несогласия, сопротивления своему идеалу; всякая беда ниспосылается как наказание — даже и на приверженцев (за исключением тех случаев, когда это испытание и т. д.). Рецепт пятый: зайти настолько далеко, что даже саму природу разбожествить как противоположность собственному идеалу — рассматривать столь длительное пребывание в природном мире как великое испытание терпения, как своего рода мученичество; упражняться в dédain [83] ужимок и манер в отношении ко всем «естественным вещам». Рецепт шестой: победа противоприроды, идеального кастратизма, победа мира чистоты, добра, безгреховности, блаженства проецируется в будущее как конец, финал, великая надежда, как «приход царства божьего». — Надеюсь, над головокружительным взлётом одного мелкого человеческого подвида на высоту абсолютного мерила всех вещей мы пока что ещё можем посмеяться?.. 205 Мне безусловно не нравится ни в этом Иисусе из Назарета, ни, скажем, в его апостоле Павле то, что они с таким упорством вбивали в головы маленьким людям, будто их скромные добродетели и вправду чего-то стоят. За это дорого пришлось расплачиваться — ибо в итоге куда более ценные качества добродетели и человека эти мелкие людишки ославили, они натравили друг на друга достоинство благородной души и угрызения её совести, они сбили с верного курса все смелые, широкие, удалые, эксцессивные склонности сильной души, ввели их в заблуждение вплоть до саморазрушения. 206 В «Новом Завете», в особенности в Евангелиях, я слышу речения отнюдь не божественного: скорее, напротив, здесь в косвенной форме звучит самая низменная, самой яростная клевета и жажда изничтожения, — то есть одна из самых подлых форм ненависти. — Отсутствует всякое знание свойств высшей натуры. — Беззастенчивое злоупотребление запанибратством во всех видах; весь запас пословиц использован и нагло присвоен; так ли уж было нужно, чтобы Бог приходил, дабы сказать тому мытарю {162} и т. д. Нет ничего более расхожего, чем эта борьба с фарисеями при помощи абсурдных и непрактичных моральных мнимостей — на подобные tour de force [84] народ всегда был падок. Упрёк в «лицемерии»! Из этих-то уст! Нет ничего более расхожего, чем подобное обращение с противником, — это коварнейший признак либо благородства, либо как раз его отсутствия. 207 Исконное христианство — это ликвидация государства: христианство возбраняет присягу, военную службу, суды, самооборону и оборону какой бы то ни было целокупности, различия между соплеменниками и чужеземцами; запрещает и иерархию сословий. Пример Христа: он не противится тем, кто причиняет ему зло; он не защищается; больше того — «подставьте левую щеку». (На вопрос «Ты ли Христос?» он отвечает: «Отныне узрите [Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных]»). Он запрещает ученикам своим оборонять его; он специально подчёркивает, что мог бы получить помощь, но не хочет {163}. Христианство — это также и ликвидация общества: оно отдаёт предпочтение всему, что обществом отторгнуто, оно взрастает из среды изгоев и преступников, отверженных и прокажённых всех мастей, «грешников», «мытарей» и проституток, из самого тёмного люда («рыбаки»); оно злобно чурается богатых, учёных, благородных, добродетельных, «корректных»... 208 Война против знатных и власть имущих, как она ведётся в «Новом Завете», подобна той, какую ведёт Рейнеке-Лис {164}, и ведётся теми же средствами — только неизменно со священнической елейностью и с решительным нежеланием признавать собственную хитрость. 209 Евангелие: весть, что всем низшим и бедным открыт доступ к счастью, — что ничего и делать не надо, кроме как избавиться от учреждений, традиций, опеки высших сословий: в этом смысле приход христианства есть не что иное, как приход типичного социалистического учения. Собственность, честный промысел, отчизна, сословия и ранг, суды, полиция, государство, церковь, образование, искусство, военное дело — всё это суть многочисленные препоны счастью, средостения, дьявольские козни, коим Евангелие сулит суровый суд — и всё это точно так же типично и для социалистического учения. В подоплёке тут возмущение, взрыв накопившегося недовольства против «господ», радостное предвкушение того, сколько счастья может крыться уже в одном только восчувствовании своей свободы после столь долгого гнёта... В большинстве случаев — символ того, что с нижними слоями общества обходились слишком человечно, что они уже ощутили на кончике языка запретный для них вкус счастья... Не голод вызывает революции, а тот аппетит, что приходит к народу во время еды... 210 Стоит хотя бы раз прочесть «Новый Завет» как книгу совратительную: добродетель здесь попросту конфискуется, в инстинктивной надежде на то, что с нею вместе можно взять в полон и общественное мнение, — причём самая скромная добродетель, которая признаёт только идеальную стадность и более ничего (кроме, разумеется, пастуха): мелкая, елейная, доброжелательная, услужливая, томно-восторженная добродетель, не имеющая никаких притязаний вовне, — намеренно от «мира» отмежёвывающаяся. Это самое вздорное и тёмное заблуждение — полагать, будто судьбы человечества вершатся так, что община находится по одну сторону и воплощает в себе всё праведное, а мир по другую и воплощает всё неверное, порочное и вечно-проклятое. Самая вздорная и тёмная ненависть против всего, что есть власть — но ни в коем случае к ней не прикасаясь! Своего рода внутреннее высвобождение, которое, однако, внешне всё оставляет по-старому. (Услужливость и рабство; из всего уметь сделать средство служения богу и добродетели). 211 Христианство возможно как проявление наиболее приватной формы существования; оно предполагает тесный круг укромного и совершенно аполитичного общества; в идеале это тайное религиозное собрание. Напротив, «христианское государство», «христианская политика» — это наглое бесстыдство, ложь, нечто вроде христианского главнокомандования, когда «царя небесного воинства» почитают как начальника генерального штаба. Да и папство тоже никогда не было в состоянии проводить христианскую политику... а когда политикой занимаются реформаторы, как Лютер, то надо знать: они такие же приверженцы Макиавелли {165}, как любой тиран или аморальный человек {166}. 212 Христианство и сейчас ещё возможно в любую секунду... Оно не связано ни одной из тех бесстыдных догм, которые украсили себя его именем: ему не нужно ни учение о персонифицированном боге, ни о грехе, ни о бессмертии, ни о спасении, ни о вере, ему вообще не нужна никакая метафизика, а ещё меньше аскетизм, а ещё меньше христианское «естествознание» {167}... [Христианство — это практика, а не вероучение. Оно говорит нам о том, как нам действовать, а не как нам веровать.] Тот, кто сегодня сказал бы: «не хочу быть солдатом», «мне нет дела до судов», «я не пользуюсь услугами полиции», «я не желаю делать ничего такого, что нарушит мир и покой внутри меня — а если мне придётся из-за этого пострадать, ничто не сохранит во мне мир и покой лучше, чем моё страдание» — тот был бы христианином... 213 К истории христианства. — Беспрерывное изменение среды: применяясь к нему, христианство беспрерывно перемещает свои точки опоры... поощрение низких и бедных сословий... развитие богаделен... тип «христианина» шаг за шагом снова принимает всё то, что он изначально отрицал (в отрицании чего он и заключался). Христианин становится гражданином, солдатом, субъектом и объектом судопроизводства, рабочим, торговцем, учёным, теологом, священником, философом, помещиком, художником, патриотом, политиком, «правителем»... он возобновляет все те деяния, которые отвергал и порицал (самооборона, признание судов, наказания, клятвы, различение между разными народами, высокомерие, гнев...). Вся жизнь христианина в конечном счёте превратилась именно в ту жизнь, от которой Христос в своих проповедях призывал отрешиться... Церковь в той же мере воплощает собой триумф антихристианства, что и современное государство, современный национализм... Церковь — это варварское поругание христианства. 214 Возобладали в христианстве: иудаизм (Павел); платонизм (Августин); культ мистерий (учение о спасении, символ «креста»); аскетизм (враждебность против «природы», «разума», «чувств», — Восток...). 215 Христианство как разъестествление стадной морали — результат абсолютного непонимания и самоослепления. Демократизация есть более естественное проявление этой морали, гораздо менее лживое. Факт: угнетённые, низшие, вся эта огромная масса рабов и полурабов хотят получить власть. Первая ступень: они освобождаются, — они вызволяются, сперва мысленно, они распознают друг друга среди себе подобных, они начинают верховодить. Вторая ступень: они вступают в борьбу, они хотят признания, равных прав, «справедливости». Третья ступень: они хотят преимуществ (они перетягивают на свою сторону представителей власти). Четвёртая ступень: они хотят иметь власть только для себя, и они её заполучают... В христианстве следует различать три элемента: а) угнетённые всех видов, б) посредственности всех видов, в) неудовлетворённые и больные всех видов. Силами первого элемента христианство борется против политической знати и её идеала; силами второго элемента — против людей исключительных и привилегированных (в умственном, чувственном и всяком ином отношении); силами третьего элемента оно борется против природного инстинкта всех здоровых и счастливых людей. Когда оно добьётся победы, второй элемент выйдет на первый план; ибо тогда христианство уже склонит на свою сторону всех здоровых и счастливых (в качестве бойцов за христианское дело), равно как и власть имущих (как заинтересованных ввиду подавляющего превосходства толпы), — и вот тогда окончательно возобладает стадный инстинкт, то бишь во всех отношениях бесценная посредственная натура, которая высшую санкцию получает именно благодаря христианству. Эта посредственная натура в конце концов до такой степени начинает себя уважать (и до такой степени осмелевает), что уже помышляет о доминировании и в политическом смысле... — Демократия — это объестествлённое христианство: своего рода «возврат к природе», но только после того, как сугубо противоестественным образом оказалась преодолённой противоположная система ценностей. — Следствие: аристократический идеал отныне всё больше лишается естественности («высший человек», «благородный», «художник», «страсть», «познание» и т. д.); романтизм как культ исключительности, гения и т. д. 216 Когда и «господа» могут стать христианами. — Это заложено в инстинкте сообщества (племя, род, стадо, община): воспринимать состояния и влечения, которым оно обязано своим сохранением, как сами по себе ценные — например, послушание, взаимность, осторожность, умеренность, сострадание, — и тем самым, следовательно, всё, что этому препятствует или противоречит, подавлять и сводить на нет. Точно так же в инстинкте господствующих (неважно, людей или сословий) заложено стремление выделять и поощрять добродетели, благодаря которым подданные сохраняют преданность и покорность (состояния и аффекты, которые могут быть сколь угодно чужды и претить их собственным чувствам).

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

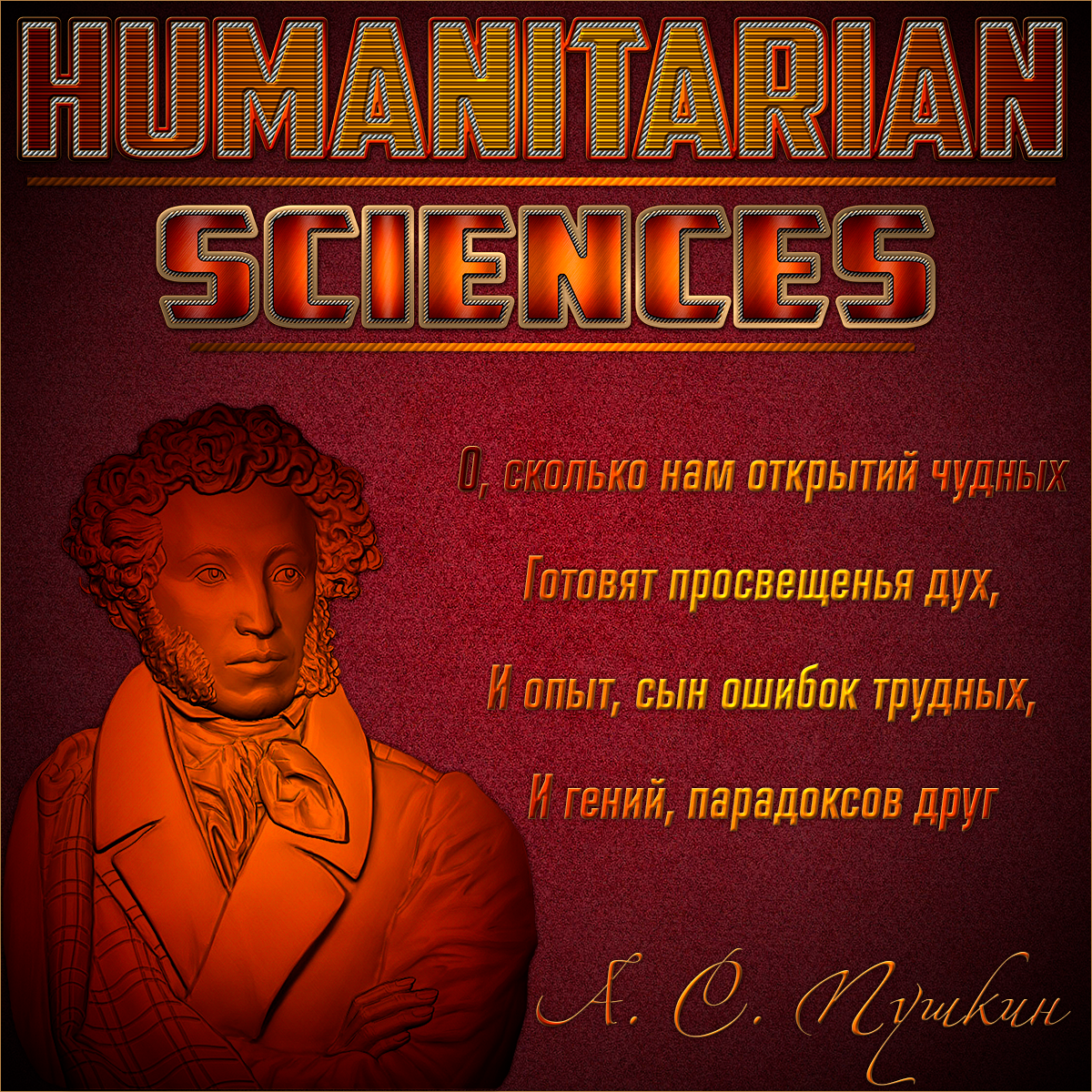











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




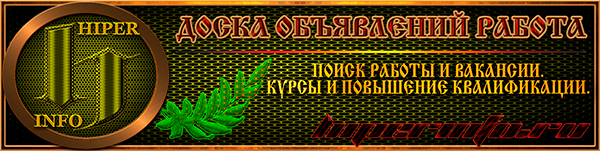

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.