- 891 Просмотр
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
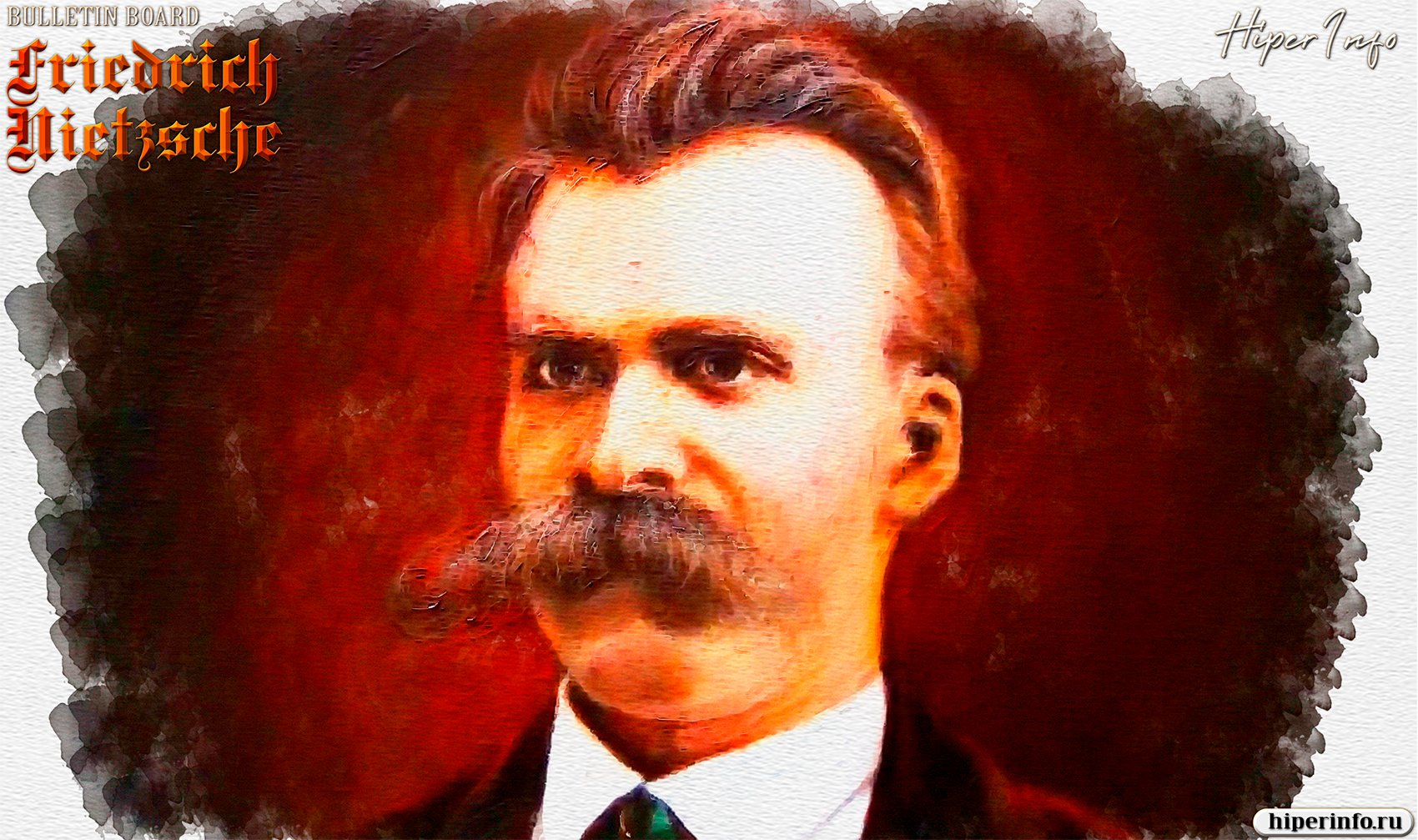
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




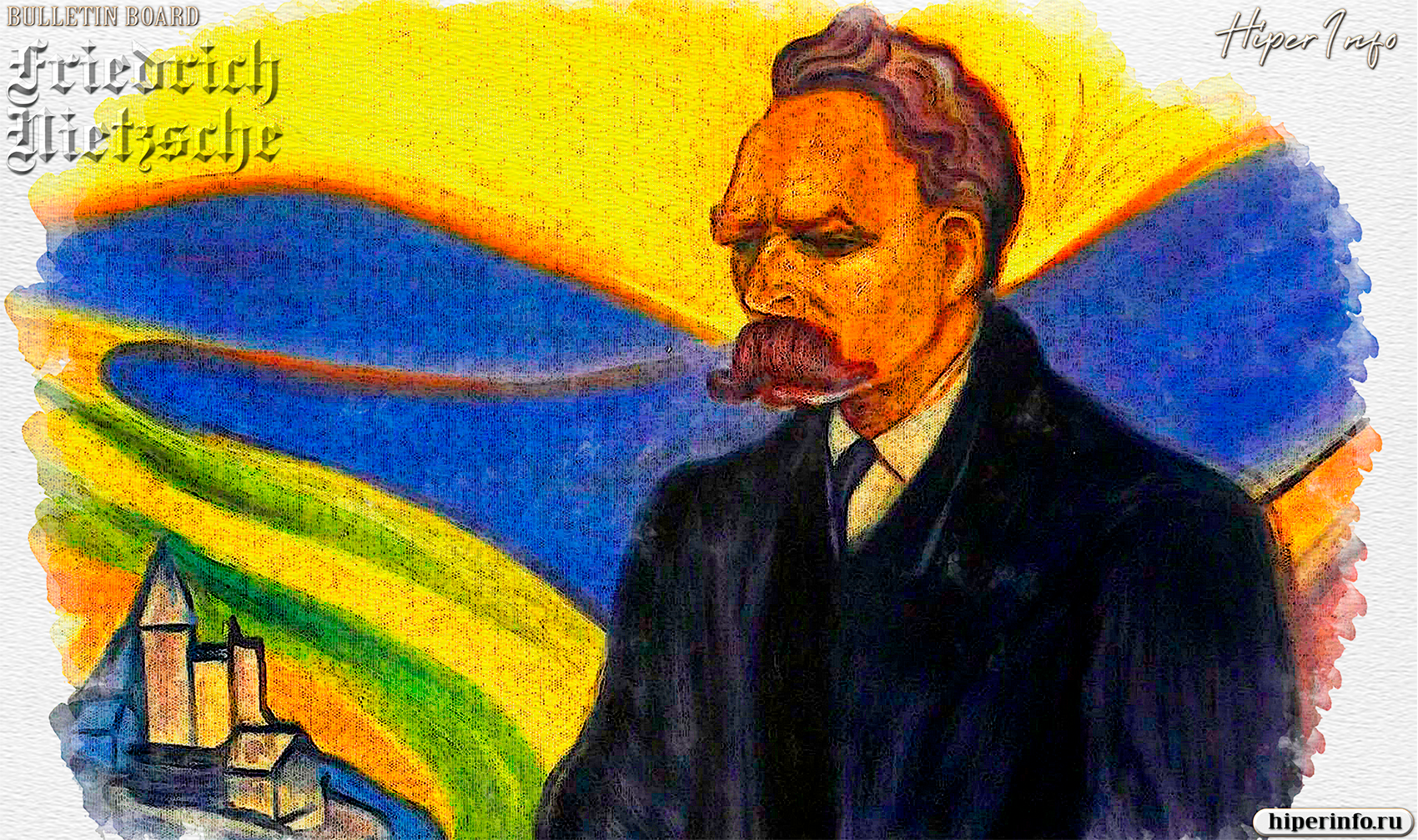




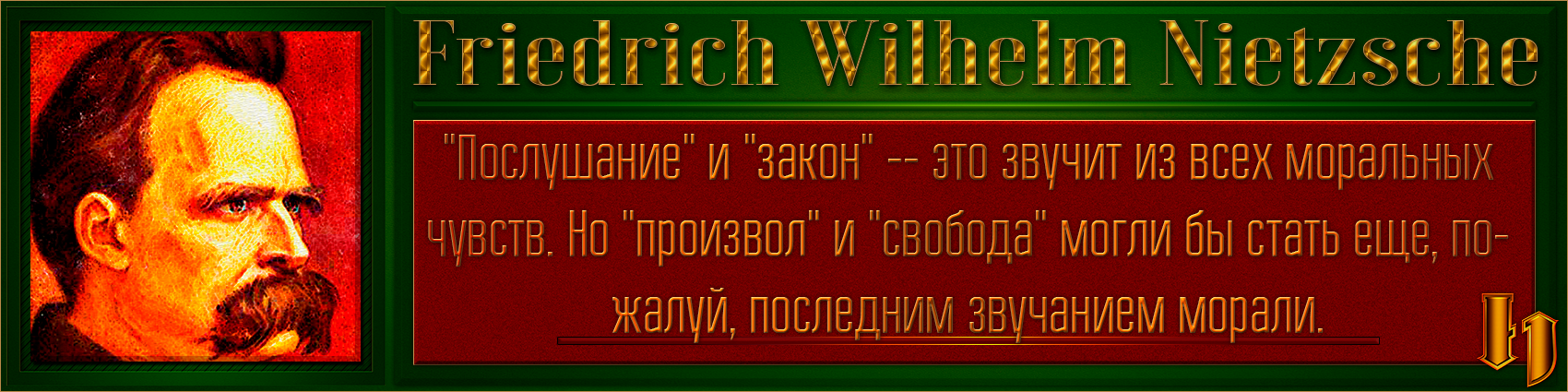


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
FRIEDRICH NIETZSCHE ВЕСЁЛАЯ НАУКА
("LA GAYA SCIENZA")

88
Серьезность в отношении истины.
Серьезность в отношении истины! Сколько много различного разумеют люди под этими словами! Одни и те же воззрения и способы доказательства и проверки, воспринимаемые каким-нибудь мыслителем как легкомыслие, которому он, к стыду своему, поддается в то или иное время, - эти же воззрения в каком-либо художнике, натолкнувшемся на них и временно увлекшемся ими, могут навести его на мысль о том, что теперь им овладела глубочайшая серьезность в отношении истины и что достойно удивления, каким образом он, хотя и художник, выказывает столь серьезное стремление к тому, что является противоположностью иллюзорного. Итак, вполне возможно, что некто именно пафосом своей серьезности выдает, сколь поверхностно и невзыскательно витал доселе его дух в царстве познания. – И разве не оказывается все то, что представляется нам весомым, нашим предателем? Оно показывает, что мы в состоянии взвесить и для чего именно мы не обладаем никакими весами.
89
Теперь и прежде.
К чему нам все наше искусство произведений искусства, если мы лишаемся того более высокого искусства – искусства празднеств! Прежде все произведения искусства выставлялись на большой праздничной улице человечества, как памятки и памятники высоких и блаженных моментов. Нынче же хотят произведениями искусства совлечь бедных, истощенных и больных с большой страждущей улицы человечества ради одного похотливого мгновеньица; им предлагают маленькое опьянение и безрассудство.
90
Свет и тени.
Книги и записи у различных мыслителей совершенно различны: один собрал в книге свет, который он наспех сумел похитить у лучей светящего ему познания и унести домой; другой передает только тени, серые и черные послеобразы того, что накануне встало в его душе.
91
Предостережение.
Альфьери, как известно, изрядно налгал, рассказывая удивленным современникам историю своей жизни. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, каковой он, к примеру, выказал, когда создавал собственный язык и тиранически вымучивал в себе поэта; в конце концов ему удалось найти строгую форму возвышенного, в которую он втиснул свою жизнь и свою память: должно быть, это стоило больших мучений. – Я нисколько не поверил бы и биографии Платона, им самим написанной; равным образом и Руссо или Дантовой vita nuova.
92
Проза и поэзия.
Однако вспомните, что великие мастера прозы почти всегда были и поэтами, публично или только украдкой и “взаперти”; и поистине, хорошую прозу пишут только перед лицом поэзии! Ибо проза есть непрерывная учтивая война с поэзией: вся ее прелесть состоит в том, что она постоянно избегает поэзии и противоречит ей; каждая абстракция хочет обернуться плутовством в отношении поэзии и как бы насмешливым тоном; каждая сухость и холодность рассчитана на то, чтобы повергнуть милую Богиню в милое отчаяние; часто случаются сближения. Мгновенные примирения и тотчас же внезапный отскок и хохот; часто подымается занавес и впускается резкий свет как раз в тот момент, когда Богиня наслаждается своими сумерками и матовыми цветами; часто срывают слово прямо с ее уст и распевают его на такой мотив, что она нежными руками придерживает нежные ушки, - и есть еще тысячи прочих удовольствий войны, включая поражения, о которых непоэтические, так называемые прозаичные люди и знать ничего не знают: на то они и говорят только дурной прозой! Война есть мать всех хороших вещей, война есть также мать хорошей прозы! – Это столетие насчитывает четырех весьма необычных и истинно поэтических писателей, достигших в прозе такого мастерства, для которого не созрело еще это столетие – из-за недостатка поэзии, как было указано. Отвлекаясь от Гете, к которому по справедливости апеллирует породившее его столетие, я вижу только Джакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ралфа Уолдо Эмерсона и Уолтера Сэведжа Лендора, автора Imaginary conversations, как достойных называться мастерами прозы.
93
Так зачем же ты пишешь?
А: Я не принадлежу к тем, кто мыслит с непросохшим пером в руке, и еще менее к тем, кто полностью отдается страстям перед чернильницей, сидя на своем стуле и глазея на бумагу. Я злюсь или стыжусь всякого писания; писание для меня естественная потребность – мне противно говорить об этом даже в сравнениях. Б: Так зачем же ты тогда пишешь? А: Н-да, мой дорогой, между нами говоря, я до сих пор не нашел еще другого средства избавиться от своих мыслей. Б: А зачем хочешь ты избавиться от них? А: Зачем я хочу? Хочу ли я? Я должен. – Б: Довольно! Довольно!
94
Посмертный рост.
Та маленькая отважная речь о нравственных делах, которую Фонтенель набросал в своих бессмертных “Разговорах в царстве мертвецов”, считалось в его время собранием парадоксов и игрою неблагонадежного остроумия; даже высшие судьи вкуса и ума не принимали ее уже во внимание, - возможно, и сам Фонтенель. Теперь происходит нечто невероятное: эти мысли становятся истинами! Наука доказывает их! Игра принимает серьезный оборот! И мы читаем эти диалоги с иным ощущением, чем читали их Вольтер и Гельвеций, и невольно возводим их автора в иной и гораздо более высокий ранг умов, чем это делали его современники, - правы ли мы? неправы ли?
95
Шамфор.
Что как раз такой знаток людей и толпы, как Шамфор, спешил на выручку толпе, а не оставался в стороне в философском самоотречении и обороне, это я могу объяснить себе не иначе как следующим образом: инстинкт в нем был сильнее его мудрости и никогда не был удовлетворен, инстинкт ненависти ко всякому знатному происхождению: быть может, старая, слишком понятная ненависть его матери, священно заговорившая в нем из любви к матери, - инстинкт мести, затаившийся в нем с детских лет и ждущий удобного момента отомстить за мать. И теперь жизнь и гений его и, ах! всего сильнее отцовская кровь в его жилах – в течение многих, многих лет – соблазняли его примкнуть именно к этой знати и сравняться с нею! В конце концов, однако, ему стал невыносим его собственный вид, вид “старого человека” при старом режиме; пылкое, страстное покаяние охватило его, и в этом состоянии он облачился в плебейскую одежду, как своего рода власяницу! Упущенная месть обернулась ему нечистой совестью. Оставайся тогда Шамфор хоть на один градус больше философом, революция не получила бы своей трагической остроты и своего самого колючего жала: она выглядела бы гораздо более глупым событием и не оказалась бы таким соблазном умов. Но ненависть и месть Шамфора воспитали целое поколение: эту школу прошли и сиятельнейшие особы. Подумайте-ка над тем, что Мирабо смотрел на Шамфора как на свое высшее и старшее Я, от которого он ждал побуждений, предостережений и приговоров, терпеливо снося их, - Мирабо, принадлежащий, как человек, к совершенно иному рангу величия, чем даже первые среди государственных величин вчерашнего и сегодняшнего дня. – Странно, что, несмотря на такого друга и заступника – сохранились даже письма Мирабо к Шамфору, - этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам, не иначе как и Стендаль, который, быть может, среди всех французов этого столетия обладал умнейшими глазами и ушами. Оттого ли, что последний, в сущнеости, заключал в себе слишком много немецкого и английского, чтобы быть еще сносным для парижан? – тогда как Шамфор, человек, богатый душевными глубинами и подоплеками, угрюмый, страдающий, пылкий, - мыслитель, считавший смех необходимым лекарством от жизни и полагавший едва ли не потерянным каждый деньт, когда он не смеялся, - выглядящий, скорее, итальянцем и кровником Данте и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: “Ah! Mon ami, - сказал он Сьейесу, - je m’en vais enfim de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze”. Это наверняка не слова умирающего француза!
96
Два оратора.
Из этих двух ораторов один лишь тогда в полной мере овладевает своим делом, когда предается страсти: только она перекачивает достаточно крови и жару в его мозг, чтобы принудить его высокую духовность к откровению. Другой силится временами достичь того же, произнося свою речь страстно, громко, пылко и увлекательно, - и терпит по обыкновению неудачу. В таких случаях он очень скоро начинает говорить темно и запутанно, преувеличивает, делает пропуски и возбуждает недоверие к разумности своей речи; он и сам ощущает это недоверие и так объясняет себе внезапные скачки к холодному и отталкивающему тону, который вызывает в слушателе сомнение в искренности его страстей. У него всякий раз ум затопляется страстью: возможно, потому что она в нем сильнее, чем у первого. Но он достигает высоты своих сил, когда противостоит бурному натиску чувства и как бы насмехается над ним6 Тогда и выступает весь его ум из засады – логичный, насмешливый, игривый и страшный ум.
97
О болтливости писателей.
Есть болтливость гнева – часто у Лютера, также у Шопенгауэра. Болтливость из чересчур большого запаса понятийных формул, как у Канта. Болтливость из любви к постоянно новым оборотам речи по поводу одного и того же предмета: ее находят у Монтеня. Болтливость язвительных натур: кто читает современные произведения, вспомнит при этом о двух писателях. Болтливость из любви к добротным словам и языковым формам: нередко в прозе Гете. Болтливость из чистой склонности к шуму и неразберихе чувств: например, у Карлейля.
98
Во славу Шекспира.
Самое прекрасное, что я мог бы сказать во славу Шекспира, человека, есть следующее: он поверил Бруту и не бросил ни одной пылинки недоверия на этого рода добродетель! Ему он посвятил лучшую свою трангедию – она и поныне называется все еще ложным именем, - ему и ужаснейшему воплощению высокой морали. Независимость души – вот о чем идет здесь речь! Никакая жертва не может здесь быть слишком большой: нужно уметь принести в жертву этому даже лучшего друга, будь он к тому же великолепнейший человек, украшение мира, гений, не имеющий равных себе, - пожертвовать им тогда именно, когда любишь свободу, как свободу великих душ, а от него этой свободе грозит опасность: нечто подобное должен был чувствовать Шекспир! Высота, на которую он возносит Цезаря, есть самая тонкая честь, какую он мог оказать Бруту: лишь таким образом возводит он его внутреннюю проблему в чудовищную степень, а равным образом и душевную силу, смогшую бы разрубить этот узел! – Но была ли то действительно политическая свобода, которая исполнила этого поэта сочувствия к Бруту – сделала его сообщником Брута? Или политическая свобода была лишь символикой чего-то невыразимого? Быть может, мы стоим перед каким-то неизвестным темным событием и авантюрой из жизни собственной души поэта, о чем он мог говорить только символами? Что значит вся гамлетовская меланхолия перед меланхолией Брута! -–и, может быть, и ее знал Шекспир, как он знал ту, из личного опыта! Может быть, и у него были свои мрачные часы и свой злой ангел, как и у Брута! – Но каковы бы ни были сходства и таинственные связи, перед цельностью облика и добродетелью Брута Шекспир падает ниц и чувствует себя недостойным и чуждым этого: свидетельство тому он вписал в свою трагедию. Дважды вывел он в ней поэта, и оба раза окатил его таким нетерпеливым и окончательным презрением, что это звучит как крик – крик самопрезрения. Брут, даже Брут теряет терпение, когда входит поэт, чванный, напыщенный, назойливый, какими поэты по обыкновению и бывают, словно некое существо, кажущееся битком набитым возможностями величия, в том числе и нравственного величия, и все же редко доводящее его в философии жизненных поступков до хотя бы обыкновенной честности. “Терплю я шутовство в другое время. Война не дело этих стихоплетов. – Любезный, прочь!” – восклицает Брут. Переведите эти слова обратно в душу поэта, сочинившего их.
Серьезность в отношении истины.
Серьезность в отношении истины! Сколько много различного разумеют люди под этими словами! Одни и те же воззрения и способы доказательства и проверки, воспринимаемые каким-нибудь мыслителем как легкомыслие, которому он, к стыду своему, поддается в то или иное время, - эти же воззрения в каком-либо художнике, натолкнувшемся на них и временно увлекшемся ими, могут навести его на мысль о том, что теперь им овладела глубочайшая серьезность в отношении истины и что достойно удивления, каким образом он, хотя и художник, выказывает столь серьезное стремление к тому, что является противоположностью иллюзорного. Итак, вполне возможно, что некто именно пафосом своей серьезности выдает, сколь поверхностно и невзыскательно витал доселе его дух в царстве познания. – И разве не оказывается все то, что представляется нам весомым, нашим предателем? Оно показывает, что мы в состоянии взвесить и для чего именно мы не обладаем никакими весами.
89
Теперь и прежде.
К чему нам все наше искусство произведений искусства, если мы лишаемся того более высокого искусства – искусства празднеств! Прежде все произведения искусства выставлялись на большой праздничной улице человечества, как памятки и памятники высоких и блаженных моментов. Нынче же хотят произведениями искусства совлечь бедных, истощенных и больных с большой страждущей улицы человечества ради одного похотливого мгновеньица; им предлагают маленькое опьянение и безрассудство.
90
Свет и тени.
Книги и записи у различных мыслителей совершенно различны: один собрал в книге свет, который он наспех сумел похитить у лучей светящего ему познания и унести домой; другой передает только тени, серые и черные послеобразы того, что накануне встало в его душе.
91
Предостережение.
Альфьери, как известно, изрядно налгал, рассказывая удивленным современникам историю своей жизни. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, каковой он, к примеру, выказал, когда создавал собственный язык и тиранически вымучивал в себе поэта; в конце концов ему удалось найти строгую форму возвышенного, в которую он втиснул свою жизнь и свою память: должно быть, это стоило больших мучений. – Я нисколько не поверил бы и биографии Платона, им самим написанной; равным образом и Руссо или Дантовой vita nuova.
92
Проза и поэзия.
Однако вспомните, что великие мастера прозы почти всегда были и поэтами, публично или только украдкой и “взаперти”; и поистине, хорошую прозу пишут только перед лицом поэзии! Ибо проза есть непрерывная учтивая война с поэзией: вся ее прелесть состоит в том, что она постоянно избегает поэзии и противоречит ей; каждая абстракция хочет обернуться плутовством в отношении поэзии и как бы насмешливым тоном; каждая сухость и холодность рассчитана на то, чтобы повергнуть милую Богиню в милое отчаяние; часто случаются сближения. Мгновенные примирения и тотчас же внезапный отскок и хохот; часто подымается занавес и впускается резкий свет как раз в тот момент, когда Богиня наслаждается своими сумерками и матовыми цветами; часто срывают слово прямо с ее уст и распевают его на такой мотив, что она нежными руками придерживает нежные ушки, - и есть еще тысячи прочих удовольствий войны, включая поражения, о которых непоэтические, так называемые прозаичные люди и знать ничего не знают: на то они и говорят только дурной прозой! Война есть мать всех хороших вещей, война есть также мать хорошей прозы! – Это столетие насчитывает четырех весьма необычных и истинно поэтических писателей, достигших в прозе такого мастерства, для которого не созрело еще это столетие – из-за недостатка поэзии, как было указано. Отвлекаясь от Гете, к которому по справедливости апеллирует породившее его столетие, я вижу только Джакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ралфа Уолдо Эмерсона и Уолтера Сэведжа Лендора, автора Imaginary conversations, как достойных называться мастерами прозы.
93
Так зачем же ты пишешь?
А: Я не принадлежу к тем, кто мыслит с непросохшим пером в руке, и еще менее к тем, кто полностью отдается страстям перед чернильницей, сидя на своем стуле и глазея на бумагу. Я злюсь или стыжусь всякого писания; писание для меня естественная потребность – мне противно говорить об этом даже в сравнениях. Б: Так зачем же ты тогда пишешь? А: Н-да, мой дорогой, между нами говоря, я до сих пор не нашел еще другого средства избавиться от своих мыслей. Б: А зачем хочешь ты избавиться от них? А: Зачем я хочу? Хочу ли я? Я должен. – Б: Довольно! Довольно!
94
Посмертный рост.
Та маленькая отважная речь о нравственных делах, которую Фонтенель набросал в своих бессмертных “Разговорах в царстве мертвецов”, считалось в его время собранием парадоксов и игрою неблагонадежного остроумия; даже высшие судьи вкуса и ума не принимали ее уже во внимание, - возможно, и сам Фонтенель. Теперь происходит нечто невероятное: эти мысли становятся истинами! Наука доказывает их! Игра принимает серьезный оборот! И мы читаем эти диалоги с иным ощущением, чем читали их Вольтер и Гельвеций, и невольно возводим их автора в иной и гораздо более высокий ранг умов, чем это делали его современники, - правы ли мы? неправы ли?
95
Шамфор.
Что как раз такой знаток людей и толпы, как Шамфор, спешил на выручку толпе, а не оставался в стороне в философском самоотречении и обороне, это я могу объяснить себе не иначе как следующим образом: инстинкт в нем был сильнее его мудрости и никогда не был удовлетворен, инстинкт ненависти ко всякому знатному происхождению: быть может, старая, слишком понятная ненависть его матери, священно заговорившая в нем из любви к матери, - инстинкт мести, затаившийся в нем с детских лет и ждущий удобного момента отомстить за мать. И теперь жизнь и гений его и, ах! всего сильнее отцовская кровь в его жилах – в течение многих, многих лет – соблазняли его примкнуть именно к этой знати и сравняться с нею! В конце концов, однако, ему стал невыносим его собственный вид, вид “старого человека” при старом режиме; пылкое, страстное покаяние охватило его, и в этом состоянии он облачился в плебейскую одежду, как своего рода власяницу! Упущенная месть обернулась ему нечистой совестью. Оставайся тогда Шамфор хоть на один градус больше философом, революция не получила бы своей трагической остроты и своего самого колючего жала: она выглядела бы гораздо более глупым событием и не оказалась бы таким соблазном умов. Но ненависть и месть Шамфора воспитали целое поколение: эту школу прошли и сиятельнейшие особы. Подумайте-ка над тем, что Мирабо смотрел на Шамфора как на свое высшее и старшее Я, от которого он ждал побуждений, предостережений и приговоров, терпеливо снося их, - Мирабо, принадлежащий, как человек, к совершенно иному рангу величия, чем даже первые среди государственных величин вчерашнего и сегодняшнего дня. – Странно, что, несмотря на такого друга и заступника – сохранились даже письма Мирабо к Шамфору, - этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам, не иначе как и Стендаль, который, быть может, среди всех французов этого столетия обладал умнейшими глазами и ушами. Оттого ли, что последний, в сущнеости, заключал в себе слишком много немецкого и английского, чтобы быть еще сносным для парижан? – тогда как Шамфор, человек, богатый душевными глубинами и подоплеками, угрюмый, страдающий, пылкий, - мыслитель, считавший смех необходимым лекарством от жизни и полагавший едва ли не потерянным каждый деньт, когда он не смеялся, - выглядящий, скорее, итальянцем и кровником Данте и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: “Ah! Mon ami, - сказал он Сьейесу, - je m’en vais enfim de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze”. Это наверняка не слова умирающего француза!
96
Два оратора.
Из этих двух ораторов один лишь тогда в полной мере овладевает своим делом, когда предается страсти: только она перекачивает достаточно крови и жару в его мозг, чтобы принудить его высокую духовность к откровению. Другой силится временами достичь того же, произнося свою речь страстно, громко, пылко и увлекательно, - и терпит по обыкновению неудачу. В таких случаях он очень скоро начинает говорить темно и запутанно, преувеличивает, делает пропуски и возбуждает недоверие к разумности своей речи; он и сам ощущает это недоверие и так объясняет себе внезапные скачки к холодному и отталкивающему тону, который вызывает в слушателе сомнение в искренности его страстей. У него всякий раз ум затопляется страстью: возможно, потому что она в нем сильнее, чем у первого. Но он достигает высоты своих сил, когда противостоит бурному натиску чувства и как бы насмехается над ним6 Тогда и выступает весь его ум из засады – логичный, насмешливый, игривый и страшный ум.
97
О болтливости писателей.
Есть болтливость гнева – часто у Лютера, также у Шопенгауэра. Болтливость из чересчур большого запаса понятийных формул, как у Канта. Болтливость из любви к постоянно новым оборотам речи по поводу одного и того же предмета: ее находят у Монтеня. Болтливость язвительных натур: кто читает современные произведения, вспомнит при этом о двух писателях. Болтливость из любви к добротным словам и языковым формам: нередко в прозе Гете. Болтливость из чистой склонности к шуму и неразберихе чувств: например, у Карлейля.
98
Во славу Шекспира.
Самое прекрасное, что я мог бы сказать во славу Шекспира, человека, есть следующее: он поверил Бруту и не бросил ни одной пылинки недоверия на этого рода добродетель! Ему он посвятил лучшую свою трангедию – она и поныне называется все еще ложным именем, - ему и ужаснейшему воплощению высокой морали. Независимость души – вот о чем идет здесь речь! Никакая жертва не может здесь быть слишком большой: нужно уметь принести в жертву этому даже лучшего друга, будь он к тому же великолепнейший человек, украшение мира, гений, не имеющий равных себе, - пожертвовать им тогда именно, когда любишь свободу, как свободу великих душ, а от него этой свободе грозит опасность: нечто подобное должен был чувствовать Шекспир! Высота, на которую он возносит Цезаря, есть самая тонкая честь, какую он мог оказать Бруту: лишь таким образом возводит он его внутреннюю проблему в чудовищную степень, а равным образом и душевную силу, смогшую бы разрубить этот узел! – Но была ли то действительно политическая свобода, которая исполнила этого поэта сочувствия к Бруту – сделала его сообщником Брута? Или политическая свобода была лишь символикой чего-то невыразимого? Быть может, мы стоим перед каким-то неизвестным темным событием и авантюрой из жизни собственной души поэта, о чем он мог говорить только символами? Что значит вся гамлетовская меланхолия перед меланхолией Брута! -–и, может быть, и ее знал Шекспир, как он знал ту, из личного опыта! Может быть, и у него были свои мрачные часы и свой злой ангел, как и у Брута! – Но каковы бы ни были сходства и таинственные связи, перед цельностью облика и добродетелью Брута Шекспир падает ниц и чувствует себя недостойным и чуждым этого: свидетельство тому он вписал в свою трагедию. Дважды вывел он в ней поэта, и оба раза окатил его таким нетерпеливым и окончательным презрением, что это звучит как крик – крик самопрезрения. Брут, даже Брут теряет терпение, когда входит поэт, чванный, напыщенный, назойливый, какими поэты по обыкновению и бывают, словно некое существо, кажущееся битком набитым возможностями величия, в том числе и нравственного величия, и все же редко доводящее его в философии жизненных поступков до хотя бы обыкновенной честности. “Терплю я шутовство в другое время. Война не дело этих стихоплетов. – Любезный, прочь!” – восклицает Брут. Переведите эти слова обратно в душу поэта, сочинившего их.

МИФОЛОГИЯ




МИФ/MYTH | МИФОЛОГИЯ/MYTHOLOGY | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ/MYTHOLOGICAL | МИФИЧЕСКИЙ/MYTHICAL
ФИЛОСОФИЯ/PHILOSOPHY | ЭТИКА /ETHICS | ЭСТЕТИКА/AESTHETICS | ПСИХОЛОГИЯ/PSYCHOLOGY
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ


| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ \
ЛЖИВЫЙ \ ЛОЖНЫЙ \ ЛОЖЬ \ ОБМАН \ ЗАБЛУЖДЕНИЕ \ ОБМАНЧИВОСТЬ \

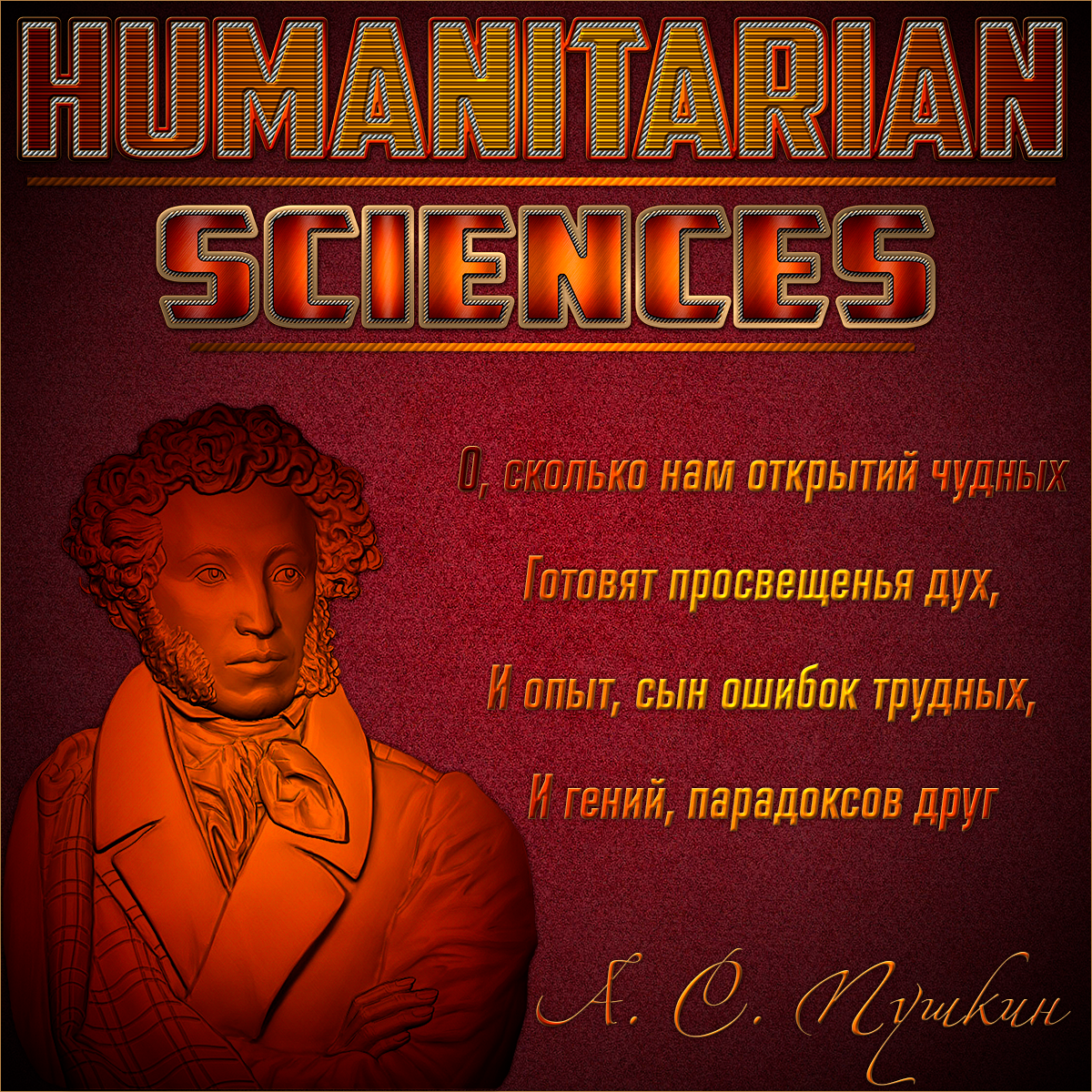











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




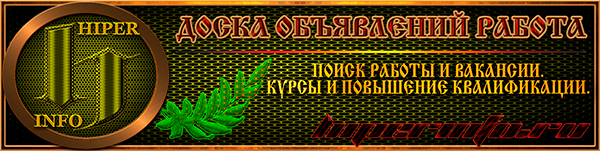

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.