- 142 Просмотра
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
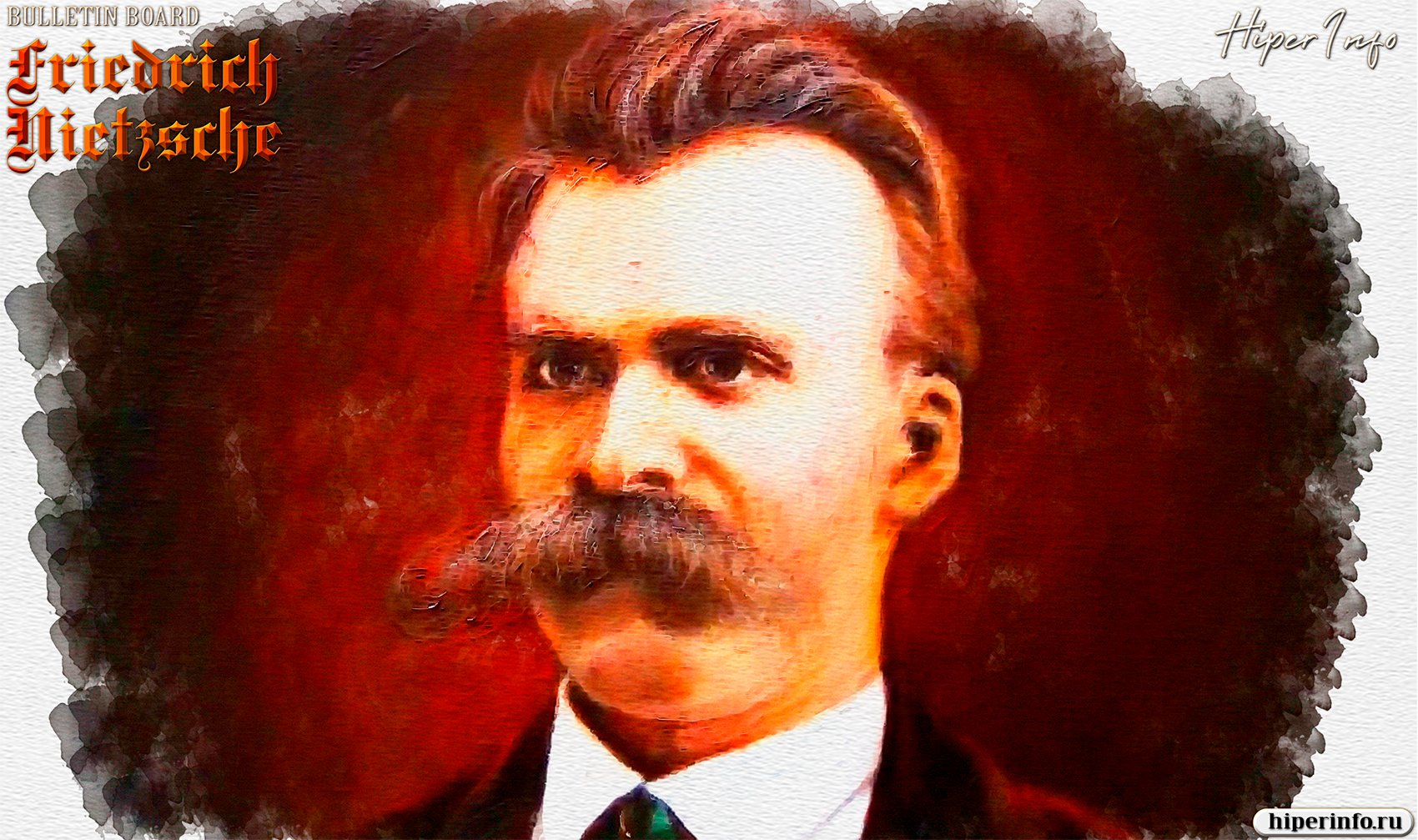
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




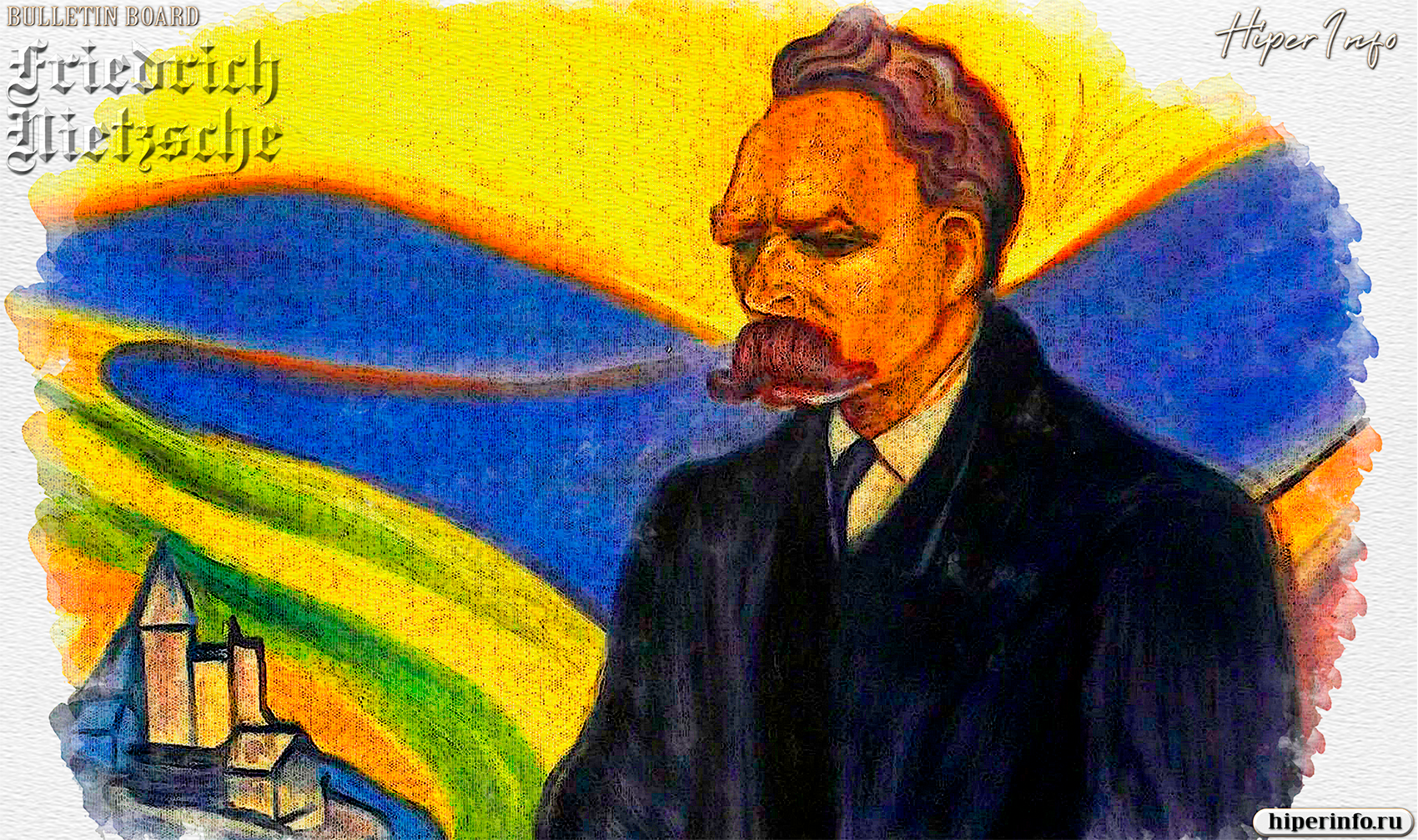




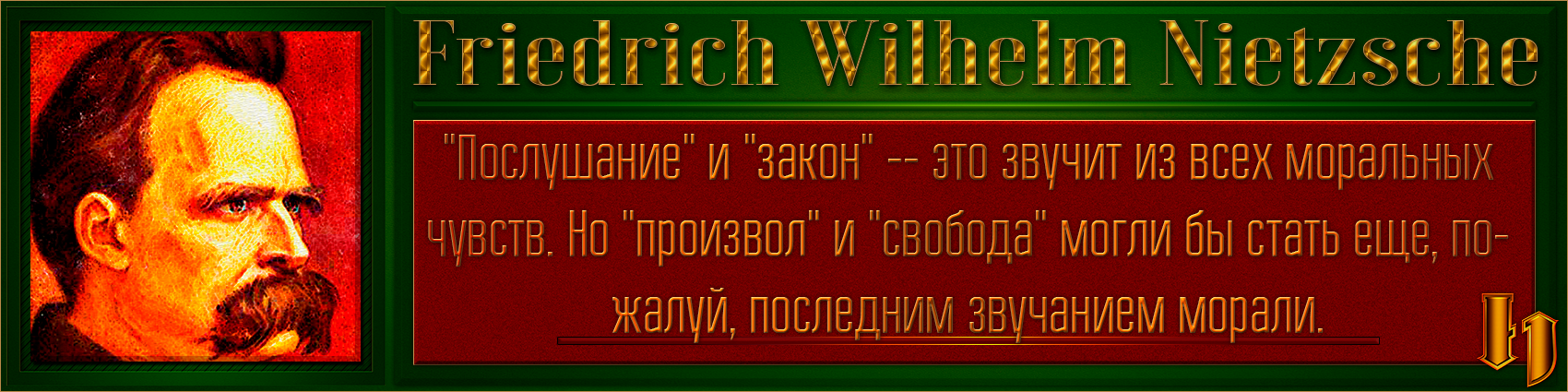


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ВОЛЯ К ВЛАСТИ
ОПЫТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ

Более проницательный взгляд нашёл бы желательным как раз обратное, т. е. всё большее господство злого, всё возрастающее освобождение человека от узкого и боязливого самозашнуровывания в мораль, накопление силы, которое бы дало возможность подчинить человеку величайшие силы природы — аффекты. 387 Учение о роли страстей, взятое в целом: как будто бы только то правильно и нормально, что направляется разумом, в то время как страсти представляют нечто ненормальное, опасное, полуживотное, и кроме того, со стороны их цели, — не что иное, как стремление к наслаждению... Страсть является недостойной: 1) потому что она будто бы только каким-то незаконным способом, а не необходимо и постоянно — является mobile [118] , 2) поскольку она имеет в виду нечто такое, что не обладает большой ценностью — удовольствие... Неправильное воззрение на страсти и разум, как будто последний есть существо сам по себе, а не скорее относительное состояние различных страстей и желаний; и как будто всякая страсть не заключает в себе своей доли разума. 388 Как под давлением аскетической морали самоотречения должны были неправильно пониматься именно аффекты любви, доброты, сострадания, даже справедливости, великодушия, героизма. Богатство личности, переливающая через край полнота внутренней жизни, инстинктивное чувство благосостояния и самоподтверждения — вот что составляет сущность великих жертв и великой любви; сильная и божественная самость и есть та почва, на которой вырастают эти аффекты, точно так же, как, несомненно, и стремление к господству, расширение сферы влияния личности, внутренняя уверенность в обладании правом на всё. Противополагаемые, с точки зрения господствующих взглядов, темпераменты представляют в сущности один темперамент; а раз кто-либо не сидит достаточно прочно и бодро в своей собственной коже, то ему нечего раздавать и он не может протянуть руку помощи и быть защитой и посохом... Каким образом можно было настолько перетолковать природу этих инстинктов, что человек стал считать ценным то, что идёт вразрез с интересами его «я», что он поступается своим «я» для другого «я»? О, жалкие психологические ничтожество и ложь, господствовавшие до сих пор в учении церкви и в заражённой церковностью философии! Если человек насквозь грешен, то он должен себя только ненавидеть. В сущности, ему нет основания питать к своим ближним другие какие-либо чувства: любовь к людям нуждается в оправдании, которое заключается в том, что она вменяется в обязанность Богом. Отсюда следует, что все естественные инстинкты человека (напр., инстинкт любви и т. д.) кажутся ему сами по себе недозволенными и, только будучи отвергнуты сначала из послушания Богу, снова получают право на существование... Паскаль, этот удивительнейший логик христианства, не отступил даже и перед этим выводом. Достаточно вспомнить его отношение к сестре {237}. «Не стараться вызвать любви к себе», — было, как ему казалось, долгом христианина. 389 Взвесим, как дорого оплачивается такой моральный канон («идеал»). (Его враги — кто? «Эгоисты».) — Меланхолическая проницательность самоумаления в Европе (Паскаль, Ларошфуко) {238}, внутреннее ослабление, потеря мужества, самотерзание у нестадных животных; — Постоянное подчёркивание свойств, характерных для посредственности, как самых ценных (скромность, плечо к плечу, способность быть орудием); — Нечистая совесть как примесь ко всему самостоятельному, оригинальному; — В результате неудовольствие — значит омрачение мира тех, кто рождён более сильным! Стадное сознание, перенесённое в философию и религию, так же как и свойственная ему боязливость. Не говоря уже о психологической невозможности чисто бескорыстного поступка! 390 Моё заключение таково, что действительный человек представляет гораздо более высокую ценность, чем «желательный» человек какого-либо из прежних идеалов; что все «желательности» были в отношении к человеку нелепым и опасным увлечением, с помощью которого отдельный вид человека хотел бы предписать человеку в качестве закона условия своего сохранения и роста; что всякая достигшая господства «желательность» такого рода принижала до сих пор ценность человека, его силу, его уверенность в будущем: что ничтожество и скудная интеллектуальность человека обнаруживается ярче всего даже и теперь, — тогда, когда он желает; что способность человека создавать ценности была до сих пор слишком мало развита для того, чтобы справиться с фактической, а не просто «желательной» ценностью человека; что идеал был до настоящего времени, в действительности, силой, клеветавшей на мир и человека, ядовитым налётом на реальности, великим соблазном к ничто... [D. Критика терминов «исправление», «совершенствование», «повышение»] 391 Масштаб, при помощи которого следует измерять ценность моральных оценок. Незамеченный основной факт: противоречие между «моральным совершенствованием» и повышением и укреплением типа человек. Homo natura [119] . «Воля к власти». 392 Моральные ценности как мнимые ценности в сравнении с физиологическими. 393 Размышление о самых общих принципах всегда запаздывает, например, последние «желательности» в отношении человека никогда, собственно, не рассматривались философами как проблема. При этом они наивно исходят из предположения о возможности «улучшения» человека как будто какая-то интуиция избавила нас от вопроса, почему именно мы должны «улучшать» человека? В какой мере желательно, чтобы человек становился добродетельнее? или умнее? или счастливее? Если допустить, что мы ещё не решили общего вопроса о «почему?» человека, то всякая такого рода задача лишена смысла; и если желательно одно, то, как знать, — тогда, может быть, нельзя хотеть другого? Совместим ли подъём добродетельности с одновременным ростом ума и понимания? Dubito [120] : мне представится ещё не раз случай доказать противоположное. Разве добродетельность, в строгом смысле слова, фактически до сих пор не была в противоречии со счастьем? Не нуждается ли она с другой стороны, в несчастии, лишениях и самоистязании как в необходимом условии? И если бы целью было наивысшее понимание, то не следовало ли бы именно в силу этого отказаться от увеличения счастья? И предпочесть, в этом случае, в качестве средства к пониманию опасность, приключение, недоверие, совращение... И если искать счастья, то не следовало ли бы тогда примкнуть к «нищим духа» {239}? 394 Всеобщий обман и самообман в области так называемого морального исправления. Мы не верим в то, что человек может стать иным, если он уже не есть иной, т. е. если он, как это довольно часто встречается, не представляет собой множественности личностей или, по меньшей мере, множественности зачатков личностей. В этом случае дело происходит так, что на передний план сцены выдвигается другая роль, что «старый человек» отодвигается назад... Изменяется лишь внешний вид, не сущность... Что кто-нибудь перестаёт совершать известные поступки, это простой fatum brutum [121] , который допускает самое различное толкование. Этим путём не всегда достигается даже и то, чтобы уничтожалась привычка к известным действиям, чтобы у них была отнята всякая почва. Кто сделался преступником по случайному стечению обстоятельств и склонности, тот ни от чего не отучивается, а выучивается всё новому, продолжительные же лишения действуют скорее как tonicum [122] на его талант... Для общества, конечно, представляет интерес только то, чтобы кто-либо не совершал больше известных поступков; оно удаляет его для этой цели из тех условий, при которых он может совершить известные поступки — это во всяком случае умнее, чем пытаться достигнуть невозможного, а именно: сломить фатальность его известным образом сложившегося существа. Церковь, — а в этом отношении она действовала лишь как преемница и наследница античной философии, — исходя из иной меры ценности и желая обеспечить «душу», «спасение души», верит в искупляющую силу последующего прощения. И то, и другое — заблуждения религиозного предрассудка: наказание не искупляет, прощение не примиряет, сделанное не может стать несделанным. Тот факт, что кто-нибудь что-нибудь позабудет, далеко ещё не доказывает, что это что-то больше не существует... Данный поступок осуществляет все свои следствия в человеке и вне человека, независимо от того, считается ли он наказанным, «искупленным», «прощённым» и «примирённым»; независимо также и от того, успела ли церковь, между тем, причислить самого виновника к лику святых. Церковь верит в вещи, которые не существуют, в «души»; она верит в влияния, которые не существуют — в божественные влияния; она верит в состояния, которых нет: в грех, в искупление, в спасение души; она везде останавливается на поверхности, на знаках, жестах, словах, которым она даёт произвольное толкование. У ней есть додуманная до конца методика психологической чеканки фальшивой монеты. 395 «Болезнь делает человека лучше», — это знаменитое утверждение, с которым мы встречаемся во все эпохи и притом в устах мудрецов, как и в устах и на языке народа, заставляет задуматься; если это утверждение правильно, то хотелось бы предложить один вопрос: возможно ли, что существует причинная связь между моралью и болезнью вообще? «Исправление человека», рассматриваемое в общих чертах, напр., несомненное смягчение, очеловечение, рост добродушия, наблюдаемые за последнее столетие — не являются ли они следствиями продолжительного, скрытого и тяжёлого страдания, неудачи, лишения, захирения? «Сделала ли болезнь» европейца «лучше»? Или ставя вопрос иначе: является ли наша моральность — наша современная утончённая моральность в Европе, которую можно было бы уподобить моральности китайцев — выражением физиологического регресса? В самом деле, трудно было бы отрицать, что всякий раз, как в истории «человек» показывает себя в особенном великолепии и мощи своего типа, события тотчас же принимали внезапный, опасный, эруптивный характер, при котором человечеству приходилось круто; и, может быть, в тех случаях, где дело, по-видимому, обстояло иначе, не хватало только мужества или тонкости углубить психологию и извлечь также и отсюда общее положение: «чем здоровее, сильнее, богаче, плодотворнее, предприимчивее чувствует себя человек, тем он «безнравственнее». Мучительная мысль, над которой ни в каком случае не следует задумываться! Но допустим, что мы решимся на одно маленькое, короткое мгновеньице идти за ней вперёд: как удивительно показалось бы нам будущее! Что тогда оплачивалось на земле дороже, как не то, к чему мы всеми силами стремимся — очеловечивание, «улучшение», возрастающая «цивилизация» человека? Ничто не обходилось бы так дорого, как добродетель — ибо в конце концов земля благодаря ей уподобилась бы госпиталю, а «каждый для каждого сиделка» было бы последним словом мудрости. Правда, тогда бы царил на земле желанный мир. Но в то же время было бы так мало «удовольствия друг от друга»! Так мало красоты, дерзания, отваги, опасности! Так мало «дел», ради которых стоило бы жить на земле! Ах! И совершенно никаких «подвигов» больше! А все великие дела и подвиги, которые оставили свои следы и не были смыты волнами времени — разве они все не были в глубочайшей их сущности выдающимися безнравственностями? 396 Священники — и с ними полусвященники, философы — во все времена называли истиной учение, воспитательное действие которого было благотворным или казалось благотворным — которое «исправляло». В этом они уподобляются наивным знахарям и чудодеям из народа, которые, убедившись на опыте в лечебных свойствах яда, отрицают, что это яд. «По их плодам вы познаете их», — т. е. наши «истины»: такова аргументация священников ещё и до настоящего времени. Они сами роковым для них образом потратили всё своё остроумие на то, чтобы обеспечить за «доказательством силы» (или «по плодам») преимущество, даже больше того, — решающее значение среди всех остальных форм доказательства. «Что делает хорошим, то должно быть хорошо», «что хорошо, то не может лгать», — так неумолимо заключают они — «что приносит хорошие плоды, то должно, следовательно, быть истинным: нет другого критерия истины»... Но поскольку «исправление» служит аргументом, постольку ухудшение должно быть допущено в виде возражения. Заблуждение обнаруживают тем, что исследуют жизнь заблуждающихся — один какой-нибудь ошибочный шаг, один какой-нибудь недостаток опровергает. Этот непристойнейший способ вражды, способ нападения сзади и снизу, собачий способ, никогда не вымирал: священники, поскольку они являются психологами, никогда не находили ничего более интересного, как копаться в тайнах своих противников — своё христианство они доказывают тем, что ищут в «мире» грязи. И прежде всего — у первых мира, у «гениев»: вспомним, какая борьба велась всё время в Германии против Гёте (Клопшток {240} и Гердер впереди в качестве «застрельщиков» — свой своих всегда найдёт). 397 Нужно быть очень безнравственным, чтобы водворять господство морали на практике... Средства моралистов суть ужаснейшие средства, к которым когда-либо прибегали: у кого нет достаточно мужества к безнравственности действий, тот годен к чему угодно, но только не в моралисты. Мораль — это зверинец; предпосылка её та, что железные прутья могут быть полезнее, чем свобода, даже для уже уловленных; другая её предпосылка, что существуют укротители зверей, которые не останавливаются перед самыми ужасными средствами, которые умеют пользоваться раскалённым железом. Эта ужасная порода, которая вступает в борьбу с дикими животными, называет себя священниками. Человек, запертый в железную клетку ошибок, ставший карикатурой на человека, больной, жалкий, недоброжелательный к самому себе, полный ненависти к жизненным инстинктам, полный недоверия ко всему, что красиво и счастливо в жизни, ходячее убожество, этот искусственный, произвольный, поздний, уродливый продукт, выращенный священниками на их почве, «грешник» — как нам достигнуть того, чтобы, несмотря на всё, оправдать этот феномен? Чтобы иметь правильное представление о морали, мы должны поставить на её место два зоологических понятия: приручение животного и разведение известного вида. Священники делали во все времена вид, что хотят «исправить», но мы — остальные — не можем не смеяться, если бы укротитель вздумал нам говорить о своих улучшенных животных. Приручение животного достигается в большинстве случаев причинением животному вреда, точно так же нравственный человек не есть улучшенный человек, а только ослабленный. Но он менее вреден... 398 Что я хотел бы всеми силами уяснить: а) что нет более вредного смешения, как если смешивают воспитание и укрощение — что и было сделано... Воспитание, как я его понимаю, представляет средство накопления колоссальной силы человечества, так, что поколения могут продолжать строить дальше на основе работы их предков, органически вырастая из неё не только внешним, но и внутренним образом, вырастая в нечто более сильное... б) что представляет громадную опасность убеждение, что человечество продолжает расти и становится сильнее как целое, если индивиды делаются вялыми, похожими друг на друга, посредственными... Человечество — это абстракция: целью воспитания даже в единичных случаях может быть только более сильный человек (человек, не прошедший через строгую выучку, — слаб, расточителен, непостоянен). [6. Заключительные замечания к критике морали] 399 Вот требования, предъявляемые мною к вам (как бы плохо они не доходили до вашего слуха) — вы должны: — распространить вашу критику и на самые моральные оценки; — при помощи вопроса: «почему подчинение?» побороть импульс морального чувства, требующего в этом вопросе подчинения, а не критики; — смотреть на это требование «почему?», на требование критики морали именно как на вашу теперешнюю форму самой моральности, как на самый возвышенный вид моральности, который делает честь вам и вашему времени; ваша честность, ваша воля не обманывать самих себя должна оправдать себя: «почему нет?». — Перед каким судом? 400 Три утверждения. Неаристократическое есть высшее (протест «простого человека»). Противоестественное есть высшее (протест неудачников). Среднее есть высшее (протест стада, «средних»). Итак, в истории морали находит выражение воля к власти, при посредстве которой рабы и угнетённые или же неудачники и недовольные собой или же посредственные пытаются укрепить наиболее благоприятные для них суждения о ценности. В этом отношении феномен морали с точки зрения биологии в высшей степени вреден. Мораль развивалась до сих пор за счёт: властных и их специфических инстинктов, удавшихся и прекрасных натур, независимых и в каком бы то ни было отношении привилегированных. Мораль, следовательно, представляет движение, направленное против усилий природы выработать более высокий тип. Её действие состоит в возбуждении недоверия к жизни вообще (поскольку тенденция последней воспринимается как «безнравственная»), в бессмыслице, нелепости (поскольку высшие ценности рассматриваются как находящиеся в противоречии с высшими инстинктами), в вырождении и саморазрушении «высших натур», потому что как раз в них этот конфликт становится сознательным. 401 Какие ценности до сих пор одерживали верх? Мораль как верховная ценность во всех фазах философии (даже у скептиков) {241}. Результат: этот мир никуда не годен, должен существовать «истинный мир». Чем, собственно, определяется в данном случае верховная ценность? Что такое собственно мораль? Инстинкт декаданса; этим способом усталые и обездоленные мстят за себя и делаются господами... Историческое доказательство: философы всегда на службе у нигилистических религий {242}. Инстинкт декаданса, который выступает как воля к власти. Изображение его системы морали: абсолютная безнравственность средств. Общий вывод: до сих пор существовавшие высшие ценности представляют специальный случай воли к власти; мораль как специальный случай безнравственности. Почему ценности противоположного характера всегда терпели поражение? 1) Как это было собственно возможно? Вопрос: почему всюду терпело поражение физиологическое превосходство? Почему не существовало философии «да», религии «да»? Исторические предтечи таких движений: языческая религия. Дионис против «Распятого». Вырождение. Искусство. 2) Сильные и слабые; здоровые и больные; исключение и правило. Не может быть сомнения, кто более силён... Общий аспект истории: представляет ли человек в силу этого исключение в истории жизни? Возражение против дарвинизма {243}. Средства слабых, необходимые для того, чтобы удержать власть, сделались инстинктами, «человечностью», являются «установлениями». 3) Обнаружение этого господства в наших политических инстинктах, в наших суждениях о социальных ценностях, в наших искусствах, в нашей науке. Инстинкты упадка стали господами над инстинктами подъёма... Воля к ничто стала госпожой над волей к жизни! Так ли это? Не заключается ли, может быть, в этой победе слабых и средних большая гарантия жизни, рода? Может быть, это только промежуточная ступень в общем движении жизни, некоторое замедление темпа? Необходимая самооборона против чего-то ещё более опасного? Предположим, что сильные стали господами во всём, а также и в оценках; попробуем представить себе, — как они стали бы думать о болезни, страдании, жертве! Следствием было бы презрение к самим себе у слабых — они постарались бы исчезнуть, сгинуть. И, может быть, это было бы желательно? И хотели бы мы мира, в котором отсутствовали бы результаты влияния слабых — их тонкость, внимание, духовность, гибкость?.. Мы видели борьбу двух «воль к власти» (в данном частном случае у нас был принцип, на основании которого мы могли бы признать правым того, кто был побеждён, и неправым того, другого, который до сих пор побеждал); мы познали «истинный мир» как «вымышленный мир», а мораль — как форму безнравственности. Мы не говорим: «неправ более сильный». Мы поняли то, что определяло до сих пор высшую ценность и почему оно взяло верх над противоположной оценкой — оно было численно сильнее. Очистим теперь оценку противников от инфекции и половинчатости, от вырождения, в каком она всем нам известна. Восстановление природы в её правах: освобождение от «моралина». 402 Мораль — полезная ошибка, говоря яснее, поскольку речь идёт о величайших и наиболее свободных от предрассудков покровителях её, — ложь, осознанная как необходимость. 403 Мы имеем право на истину лишь в такой мере, в какой мы уже поднялись на такую высоту, что не нуждаемся в принудительном обучении со стороны морального заблуждения. Когда наше существование подвергается моральной оценке, оно возбуждает отвращение. Мы не должны измышлять никаких фиктивных субъектов, например, говорить: «природа жестока». Ясное понимание того, что нет такого центрального ответственного существа, облегчает! Развитие человечества. A. Добиться власти над природой и, для сего, известной власти над собой. (Мораль была нужна, чтобы обеспечить человеку победу в его борьбе с природой и «диким зверем»). В. Когда власть над природой добыта, то этой властью можно воспользоваться, чтобы трудиться над дальнейшим развитием самого себя: воля к власти как самоповышение и усиление. 404 Мораль как иллюзия рода, имеющая целью побудить отдельного индивида жертвовать собой для будущего, только по видимости признавая за ним самим бесконечную ценность, чтобы он с помощью этого самосознания мог тиранизировать и подавлять другие стороны своей натуры и чтобы ему трудно было быть довольным собой. Глубочайшая благодарность морали за то, что она сделала до сих пор; но теперь она только бремя, которое может сделаться роковым. Она сама, предписывая нам правдивость, принуждает нас к отрицанию морали. 405 Насколько самоуничтожение морали может явиться результатом её собственной силы. В нас, европейцах, течёт кровь тех, кто положил жизнь ради своей веры; мы отнеслись к морали со страхом и серьёзностью, и нет ничего, чем бы мы в известной степени ради неё не жертвовали. С другой стороны, наша духовная тонкость достигнута главным образом путём вивисекции совести. Мы ещё не знаем того «куда», в сторону которого мы влечёмся, после того как мы оторвались от нашей старой почвы. Но эта почва сама вскормила в нас ту силу, которая теперь гонит нас вдаль, на приключения, которая выталкивает нас в безбрежное, неизведанное, неоткрытое; нам не остаётся никакого выбора, мы должны быть завоевателями, так как у нас нет больше страны, где мы дома, где мы хотели бы «охранять». Скрытое «да» толкает нас на это, оно сильнее, чем все наши «нет». Сама наша сила не позволяет нам больше оставаться на старой, прогнившей почве; мы отважно устремляемся вдаль, мы рискуем собой для этой цели: мир ещё богат и неисследован, и даже гибель лучше, чем перспектива стать половинчатыми и ядовитыми. Сама наша сила вынуждает нас выйти в море, туда, где до сих пор заходили все солнца; мы знаем, что есть новый мир... III. Критика философии [123] [1. Общие размышления] 406 Отбросим некоторые суеверия, которые до сих пор были в ходу относительно философов! 407 У философов существует предубеждение против иллюзорности, изменчивости, страдания, смерти, телесности, чувств, рока и необходимости, против бесцельного. Они верят, во-первых, в абсолютное познание, 2) в познание ради познания, 3) в союз добродетели и счастья, 4) в познаваемость человеческих действий. Ими руководят инстинктивные оценки, в которых отражаются более ранние состояния культуры (более опасные). 408 Чего не хватало философам? 1) Исторического чувства; 2) знания физиологии; 3) цели, направленной на будущее. Надо дать критику, свободную от всякой иронии и морального осуждения. 409 Философы отличались исстари: 1) удивительной способностью к contradictio in adjecto [124] , 2) они верили в понятия так же безусловно, как не доверяли чувствам; они не считались с тем, что понятия и слова являются нашим наследием от тех времён, когда в головах было ещё темно и мысль была непритязательна {244}. Философы догадываются только напоследок, что они не могут уже больше пользоваться готовыми понятиями, не могут только очищать и выяснять их, но должны сначала создать, сотворить их, установить их и убедить в них. До сих пор мы всецело полагались на свои понятия как на какой-то удивительный дар, полученный нами в приданое из мира чудес. Но в конце концов понятия эти оказывались наследием наших отдалённых, как самых глупых, так и самых умных предков. В этом благоговении перед всем наличным в нас и сказывается, быть может, моральный элемент в познании. Необходим, прежде всего, абсолютный скепсис по отношению ко всем традиционным понятиям (как он уже вероятно и овладел когда-то одним из философов — речь идёт, разумеется, о Платоне — ибо он учил противоположному {245}). 410 Проникнутый глубоким недоверием к теоретико-познавательным догматам, я любил смотреть то из того, то из другого окошка, остерегался там засиживаться, считая это вредным, — и в самом деле, правдоподобно ли, чтобы орудие могло критиковать собственную пригодность? Что мне казалось гораздо важнее, это то, что никогда гносеологический скептицизм, или догматизм, не возникал без скрытых побуждений, что его ценность есть ценность второго ранга, если взвесить, чем, в сущности, было вынуждено то или другое направление. Основное положение: Кант, как и Гегель, как и Шопенгауэр — как скептически эпохистическое направление, так и историзирующее, так и пессимистическое — морального происхождения. Я не видел никого, кто бы отважился на критику моральных чувств ценности; и я вскоре отвернулся от скудных попыток дать историю возникновения этих чувств (как, например, у английских и немецких дарвинистов). Как объяснить положение, занимаемое Спинозой, его отрицание и отклонение моральных суждений о ценности? {246} (С точки зрения его теодицеи это было бы лишь последовательно!) 411 Мораль как высшая расценка. Или наш мир есть творение и выражение (modus) Бога — тогда он должен быть весьма совершенным (вывод Лейбница...) {247}. А относительно того, что такое совершенство, не было никаких сомнений: тогда зло и несправедливость могут быть лишь кажущимися (у Спинозы радикальнее — понятия добра и зла {248}), или его следует вывести из высшей божественной цели (примерно как следствие особого благоволения Бога, который позволяет выбирать между добром и злом; привилегия не быть автоматом, свобода с риском ошибаться, сделать ложный выбор... например, у Симплиция {249} в комментарии к Эпиктету). Или наш мир несовершенен, зло и вина реальны, необходимо обусловлены, абсолютно присущи ему по существу, тогда он не может быть истинным миром; тогда познание служит лишь путём к отрицанию мира, тогда он — заблуждение, которое и может быть познано как таковое. Это — мнение Шопенгауэра, основанное на кантовских предпосылках. Ещё безнадёжнее взгляд Паскаля {250} — он понял, что и познание в таком случае должно быть искажено, фальсифицировано, что необходимо откровение, хотя бы только для того, чтобы понять мир как заслуживающий отрицания. 412 Привычка к безусловным авторитетам обратилась, в конце концов, в глубокую потребность в безусловных авторитетах, столь властную, что даже в такую критическую эпоху, как кантовская, она оказалась сильнее потребности в критике, и, в известном смысле, подчинила себе и обратила в свою пользу всю работу критического рассудка. В следовавшем затем поколении, которое силой своих исторических инстинктов с необходимостью приводилось к признанию относительности всяких авторитетов, потребность эта ещё раз обнаружила своё превосходство, подчинив себе даже и гегелевскую философию развития, эту окрещённую в философию историю, и представив историю как развивающееся самооткровение и самоопределение моральных идей. Со времён Платона философия находится под властью морали. Ещё у его предшественников в философию решительно вторгаются моральные объяснения. (У Анаксимандра — гибель всех вещей как наказание за их эмансипацию от чистого бытия; у Гераклита — закономерность явлений как доказательство нравственно-правовой сущности всеобщего становления). 413 Прогресс философии больше всего задерживался до сих пор скрытыми моральными побуждениями. 414 Во все времена принимали «прекрасные чувства» — за аргументы, «вздымающуюся грудь» — за раздувальные мехи божества, убеждение — за «критерий истины», потребность в противнике — за знак вопроса над мудростью; эта фальшь, эта подделка проходит через всю историю философии. Если не считать почтенных, но редко встречающихся скептиков, нигде не видно инстинкта интеллектуальной добросовестности. Вдобавок ко всему, Кант с чистым сердцем попытался при помощи понятия «практического разума» придать этому извращению мысли научный характер: он изобрёл разум специально на тот случай, когда о разуме заботиться не приходится, а именно — когда говорит потребность сердца, мораль, «долг» {251}. 415 Гегель: его популярная сторона — учение о войне и великих людях {252}. Право на стороне победителя, он олицетворяет собою прогресс человечества. Попытка на истории доказать господство морали. Кант: царство моральных ценностей, скрытое от нас, невидимое, действительное. Гегель: развитие, которое можно проследить, постепенное осуществление царства морали. Мы не желаем быть обмануты ни на кантовский манер, ни на гегелевский. Мы больше не верим, как они, в мораль, и нам, следовательно, незачем создавать философские системы ради того, чтобы мораль получила своё оправдание. Как критицизм, так и историзм не в этом обнаруживают для нас свою прелесть — ну, так в чём же? 416 Значение немецкой философии (Гегель): создать пантеистическую систему, в которой зло, заблуждение и страдание не были бы ощущаемы как аргументы против божественности. Этой грандиозной инициативой злоупотребляли существующие власти (государство и т. д.), словно ею санкционировалась разумность господствующего в данное время. Напротив, Шопенгауэр является упрямым человеком морали, который ради оправдания своих моральных оценок становится, наконец, мироотрицателем. Наконец, даже «мистиком». Я сам пытался найти эстетическое оправдание миру в форме ответа на вопрос: как возможно безобразие мира? Я считал волю к красоте, к пребыванию в тождественных формах временным средством сохранения и поддержания. Но, в основе, мне казалось, что вечно творящее начало, как осуждённое и вечно разрушать, связано со страданием. Безобразие есть форма созерцания вещей с точки зрения воли, направленной на то, чтобы вложить смысл, новый смысл в утратившее смысл: здесь действует накопленная сила, заставляющая творца воспринимать всё доселе существующее как нечто несостоятельное, неудачное, достойное отрицания, как безобразное. 417 Моё первое решение — дионисовская мудрость. Наслаждение в уничтожении всего благороднейшего и в зрелище его постепенной гибели как наслаждение грядущим, будущим, которое одерживает победы над существующим, как бы хорошо оно ни было. Дионисовски: временное отождествление с принципом жизни (включая и сладострастие мученика). Мои нововведения: Дальнейшее развитие пессимизма: пессимизм интеллекта; моральная критика, разрушение последнего утешения. Познание симптомов упадка: всякое сильное действие заволакивается мечтой и заблуждением; культура изолирована, поэтому несправедлива, но тем и сильна. 1) Моя борьба против упадка и всевозрастающей слабости личности. Я искал нового центра. 2) Познал неосуществимость этого стремления. 3) Затем я пошёл дальше по пути разложения — в этом нашёл я для немногих новые источники силы. Мы должны быть разрушителями! Я познал, что состояние разложения, в котором единичные личности могут достигать небывалой степени совершенства, является отображением и частным случаем всеобщего бытия. Против парализующего ощущения всеобщего разрушения и неоконченности я выдвинул идею вечного возвращения. 418 Ищут миросоздания в такой философии, которая дала бы нам наибольшее чувство свободы, то есть, при которой наиболее могущественный из наших инстинктов мог бы свободно проявить свою деятельность. Так же будет обстоять дело и у меня! 419 Немецкая философия как целое — Лейбниц, Кант, Гегель, Шопенгауэр, чтобы назвать великих — представляет собою наиболее основательный вид романтики и тоски по родине, какой только до сих пор был; томление по лучшему, которое когда-либо существовало. Нигде больше уж не чувствуют себя дома, стремятся вернуться туда, где можно было бы хоть отчасти зажить как дома, потому что только там тебе и хотелось бы обрести себе родину: а это — греческий мир! Но как раз все мосты, ведущие туда, разрушены, за исключением радуг понятий. А они всюду ведут во все родины и «отечества», какие только существовали для греческих душ! Разумеется, нужно быть очень лёгким и тонким, чтобы ходить по таким мосткам. Но какое счастье в этом тяготении к духовности и почти к миру призраков! Как удаляешься при этом от «толкотни и сутолоки», от механической глупости естествознания, от ярмарочного гама «современных идей»! Стремятся назад, через отцов церкви к грекам, от севера к югу, от формул к формам: находят наслаждение в закате античного мира, в христианстве, как преддверии к этому миру, как доброй части этого самого древнего мира, как блестящей мозаике античных понятий, античных оценок. Арабески, завитки, рококо схоластических абстракций — всё же лучше, то есть прекраснее, утонченнее, чем мужицкая, плебейская действительность европейского севера, всё же это ещё протест высшей духовности против крестьянской войны и восстания черни, которое покорило духовные вкусы на севере Европы и имело своим вождём великого «недуховного человека» — Лютера. В этом отношении немецкая философия представляет собою некоторую форму контрреформации или даже ренессанса, по крайней мере волю к Ренессансу, волю продолжать открытие древности и раскопки античной философии, преимущественно досократиков, этих наиболее засыпанных греческих храмов! Через несколько столетий, быть может, признают, что особенное достоинство всего немецкого философствования в том и заключалось, что оно являло собою завоевание вновь, шаг за шагом, античной почвы, и что всякое притязание на «оригинальность» звучит ничтожно и смешно в сравнении с более высоким правом немцев — утверждать, что ими восстановлена казавшаяся порванной связь с греками, этим самым высшим, из до сих пор сложившихся, типом «человека». Мы снова приближаемся теперь ко всем основным формам того миротолкования, которое изобрёл греческий дух в лице Анаксимандра, Гераклита, Парменида, Эмпедокла, Демокрита и Анаксагора; мы становимся с каждым днём всё более и более греками, вначале, конечно, в понятиях и оценках словно грецизирующие призраки, но в надежде когда-нибудь сделаться греками также и телом! На этом я строю (и всегда строил) все мои надежды на немецкий дух!

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

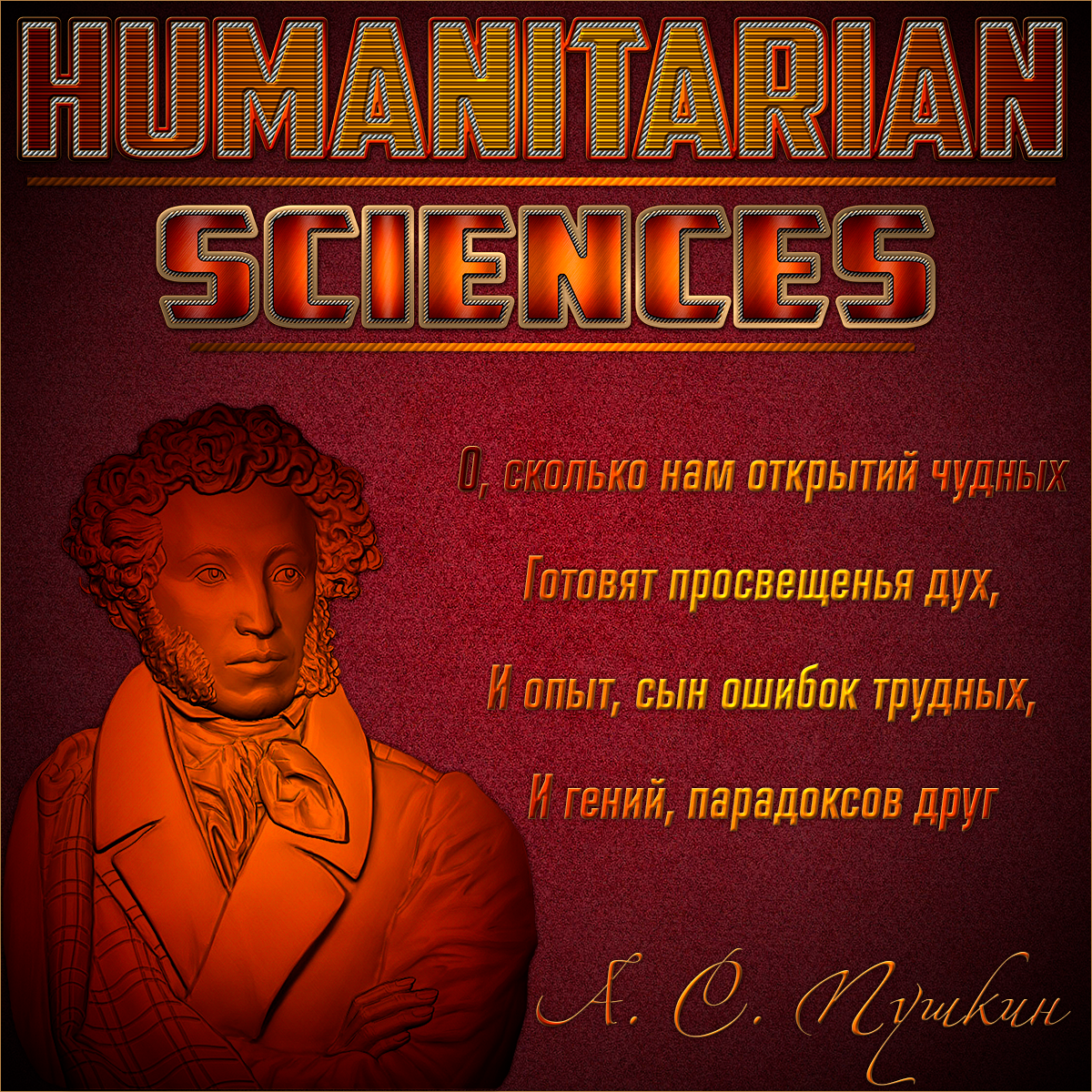











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




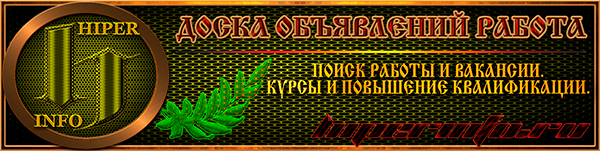

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.