- 268 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
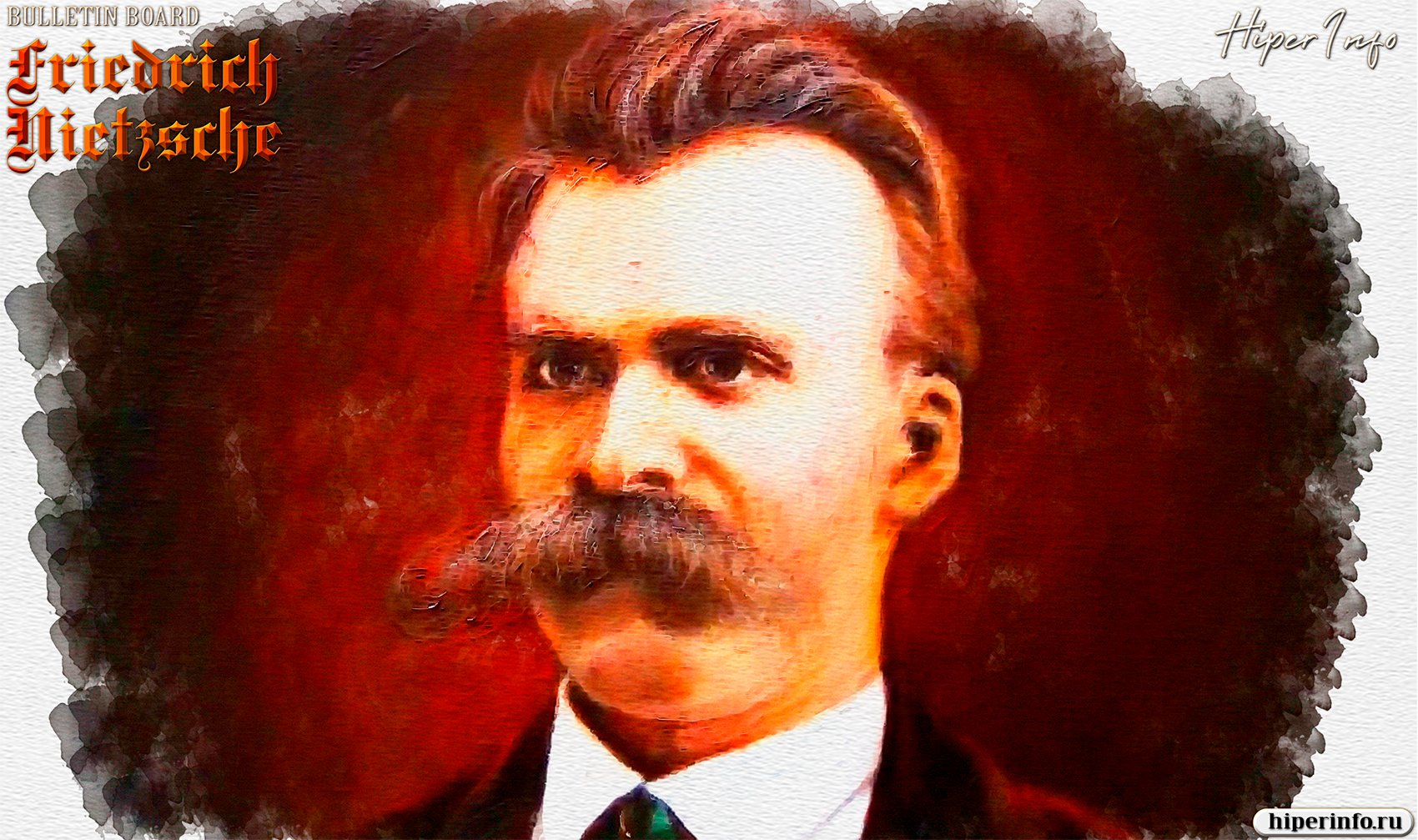
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




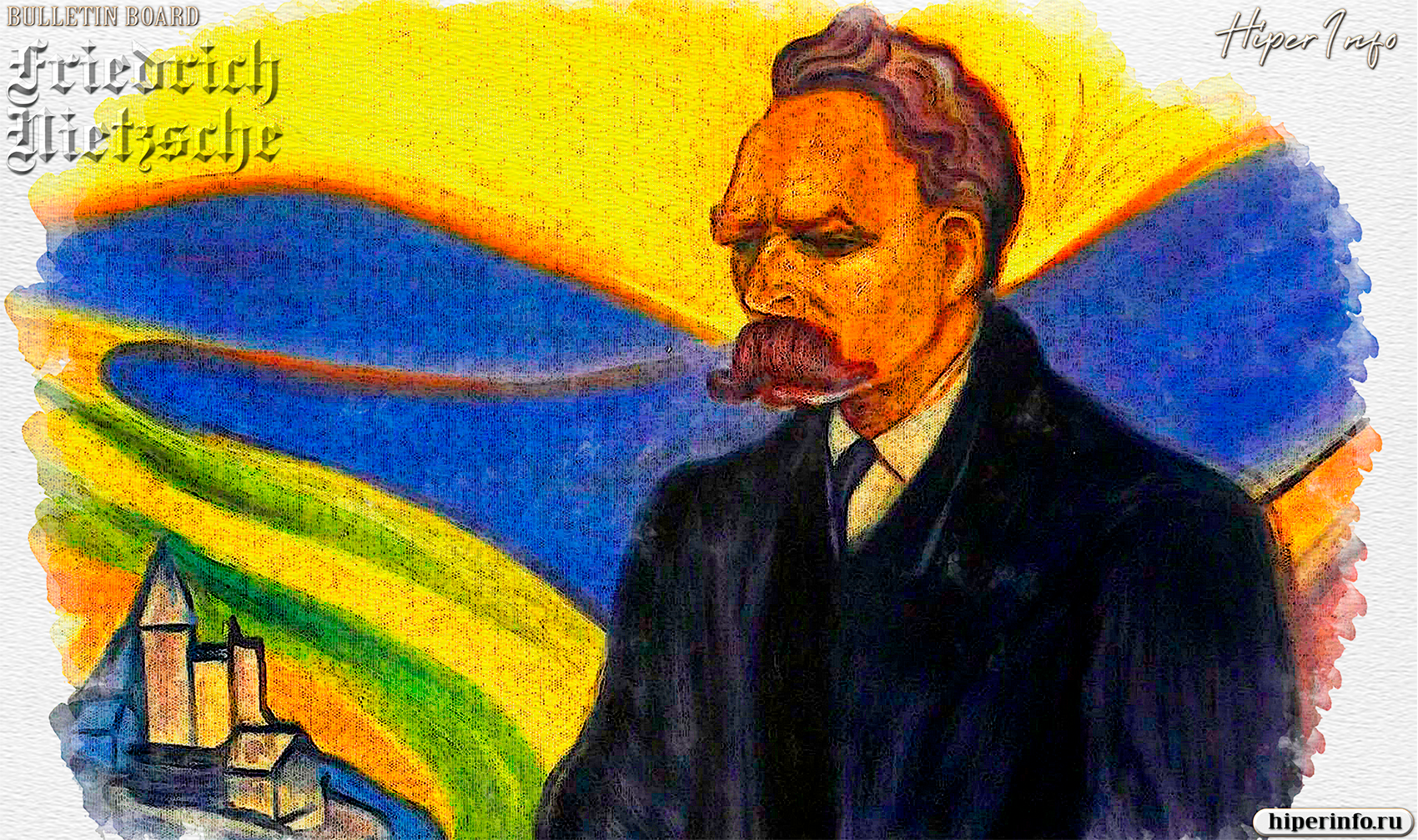




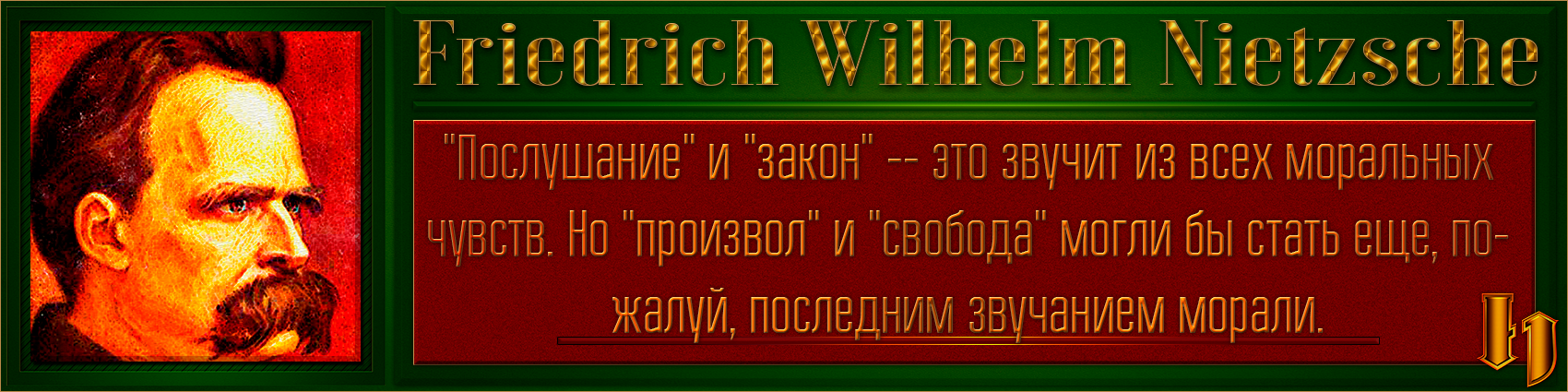


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ВОЛЯ К ВЛАСТИ
ОПЫТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ

[B. Критика «доброго человека», святого и т. д.] 351 «Добрый человек». Или: гемиплегия {217} добродетели. Для каждой сильной и оставшейся верной природе человеческой породы любовь и ненависть, благодарность и месть, доброта и гнев, утверждение и отрицание связаны неразрывно друг с другом. Можно быть добрым только тогда, когда умеешь быть и дурным; бываешь дурным потому, что иначе ты не сумел бы быть добрым. Откуда же эта болезнь и идеологическая неестественность, которые отрицают эту двойственность, которые проповедуют как нечто высшее способность быть односторонне добрым. Откуда гемиплегия добродетели, изобретение «доброго человека»? Требуют от человека, чтобы он вытравил в себе те инстинкты, которые побуждали его враждовать, гневаться, жаждать мести... Эта неестественность, далее, соответствует дуалистической концепции исключительно доброго и исключительно злого существа (Бог, дух, человек), суммирующей в первом все положительные силы, намерения, состояния, а в последнем — все отрицательные. Этот метод оценки считает себя «идеалистическим» {218}; он не сомневается в том, что ему удалось выразить в концепции «доброго» высшую желательность. Продуманный до конца, он приводит к такому состоянию, где всё злое сведено к нулю и где в действительности сохранились только добрые существа. Он не признаёт даже и того, что, как противоположности, добро и зло взаимно обусловливают друг друга; наоборот, последнее должно исчезнуть, а первое должно остаться; одно имеет право существовать, другого вовсе не должно было бы быть. Что в данном случае собственно выражает это желание? Во все времена, а в особенности во времена христианства было затрачено много труда на то, чтобы свести человека к такой односторонней деятельности, к «доброму» — даже в настоящее время нет недостатка в таких искалеченных и ослабленных церковным учением личностей, для которых осуществление этой задачи совпадает со «спасением души». Здесь в качестве основного выдвигается требование, чтобы человек не совершал никакого зла, чтобы он ни при каких условиях не вредил, не желал вредить. Путём к этому считается пресечение всякой возможности к вражде, исключение всех инстинктов мстительности, «мир души» как хроническая болезнь. Этот образ мыслей, с помощью которого взращивается определённый тип человека, исходит из нелепой предпосылки: он берёт хорошее и дурное как реальности, которые находятся в противоречии друг другу (а не как взаимно дополняющие друг друга категории ценности, как оно есть в действительности); он советует стать на сторону хорошего; он требует, чтобы хорошее отказалось от дурного и сопротивлялось ему до последних его корней — он фактически отрицает таким путём жизнь, у которой во всех её инстинктах мы видим как да, так и нет. Не то, чтобы он понимал это, наоборот, он мечтает о том, чтобы возвратиться к целостности, к единству, к силе жизни; он рисует себе как состояние избавления тот момент, когда наконец будет покончено с внутренней анархией, колебанием между противоположными инстинктами ценности. Может быть до сих пор не существовало более опасной идеологии, большего бесчинства in psychologicis [112] , чем эта воля к хорошему: вскормили отвратительнейший тип несвободного человека-святоши; учили: именно только как святоша ты находишься на верном пути приближения к божеству; только образ жизни святоши есть божественный образ жизни. И даже и тут жизнь одерживает верх — жизнь, которая не умеет отделять да от нет: что толку в том, чтобы всеми силами души считать войну злом, не вредить, не хотеть творить «нет»! Война тем не менее ведётся! Иначе никак нельзя! Добрый человек, отказавшийся от зла, страдающий упомянутой гемиплегией добродетели, которую он находит желательной, вовсе не перестаёт вести войну, иметь врагов, говорить «нет», творить «нет». Христианин, например, ненавидит «грех» — и что только не является в его глазах «грехом»! Именно благодаря этой вере в моральную противоположность добра и зла, мир кажется ему переполненным до краёв всем, что ему ненавистно, против чего необходима вечная борьба. «Добрый» видит себя как бы окружённым и постоянно осаждаемым дурным, он обостряет своё зрение и даже среди своих стремлений и помыслов он открывает зло: и таким образом, как и следовало ожидать, он кончает тем, что признаёт природу злою, человека — испорченным, а добродетель — милостью Божией, недоступной для человека. In summa: он отрицает жизнь, он приходит к выводу, что добро как высшая ценность осуждает жизнь... Этим его идеология добра и зла должна бы являться в его глазах опровергнутой. Но болезни не опровергают. И таким образом он достигает концепции иной жизни... 352 В понятие власти, будет ли то власть Бога, или власть человека, всегда входит в то же время способность приносить пользу и способность вредить. Так было и у арабов, так было и у евреев. Так у всех сильных от природы рас. Мы делаем роковой шаг, когда пытаемся дуалистически отделить способность к первому от способности ко второму. Этим путём мораль становится отравительницей жизни. 353 К критике доброго человека. Добросовестность, достоинство, чувство долга, справедливость, человечность, честность, прямота, чистая совесть, — действительно ли в этих благозвучных названиях заключается утверждение и одобрение известных качеств ради них самих? Или здесь сами по себе индифферентные в смысле ценности качества только освещаются под таким углом зрения, который сообщает им ценность. Заключается ли ценность этих качеств в них самих, или в той пользе, выгоде, которую они приносят (по-видимому, приносят или которую от них ожидают). Я имею здесь, конечно, в виду не противоположность между ego и alter [113] в деле оценки; вопрос о том, обладают ли эти качества известной ценностью благодаря вытекающим из них следствиям для носителя этих свойств, или же для среды, общества, «человечества», относительно которых им приписывается эта ценность, или они обладают ценностью сами по себе... Иначе говоря: не соображения ли пользы заставляют нас осуждать противоположные свойства, бороться с ними, отрицать их (ненадёжность, коварство, упрямство, неуверенность в себе, бесчеловечность)? Распространяется ли наше осуждение на существо этих свойств, или только на выводы из них? Ставя вопрос в иной форме, желательно ли было бы, чтобы люди, обладающие этими вторыми свойствами, вовсе не существовали? Так во всяком случае думают... Но здесь кроется ошибка, близорукость, ограниченность прячущегося по углам эгоизма. Выражаясь иначе: желательно ли было бы создать условия, при которых вся выгода была бы на стороне честных людей — так, чтобы противоположные натуры и инстинкты пали бы духом и постепенно вымерли? Это, в сущности, вопрос вкуса и эстетики: желательно ли было бы, чтобы сохранилась только «самая почтенная», т. е. самая скучная порода человека? Прямоугольные, добродетельные, порядочные, хорошие, прямые «носороги»? Если мысленно удалить колоссальную массу «иных», то даже у добродетельного человека нет более права на существование — в нём нет больше надобности, а отсюда становится ясным, что только грубая полезность могла создать почётное положение для этой несносной добродетели. Желательно, может быть, как раз обратное — создать условия, при которых «добродетельный человек» будет низведён на роль «полезного орудия» — в качестве «идеального стадного животного», в лучшем случае — пастуха стада; короче говоря, при которых ему не удаётся более занять место в высшем ранге, которое требует иных свойств. 354 «Добрый человек» как тиран. Человечество всегда повторяло одну и ту же ошибку: из средства к жизни оно сделало масштаб жизни; вместо того, чтобы обрести мерило в высшем подъёме самой жизни, в проблеме роста и истощения — оно средство к вполне определённой жизни использовало в целях исключения всех иных форм жизни, одним словом, для критики и отбора жизни. т. е. человек начинает любить средства ради них самих, забывая, что это только средства; таким образом последние теперь живут в его сознании как цели, как масштабы целей..., т. е. определённая порода человека рассматривает условия своего существования как условия, предписываемые законом, как «истину», «добро», «совершенство» — она является тираном... То, что данная человеческая порода не замечает условности своей породы, её относительности в сравнении с другими, нужно считать известной формой, которую принимает вера, инстинкт. По крайней мере, известной породе человека (народу, расе), по-видимому, наступает конец, как только она проявляет терпимость, как только она начинает признавать за другими равные права и перестаёт стремиться к господству. 355 «Добрые люди все слабы: они добры потому, что они недостаточно сильны, чтобы быть дурными», сказал Бакеру {219} вождь племени Латука {220} Коморро. «Для слабых сердец нет несчастья» {221}, — говорят русские. 356 Скромным, прилежным, благожелательным, умеренным — таким вы хотели бы видеть человека? Доброго человека? Но мне он представляется только идеальным рабом, рабом будущего. 357 Метаморфозы рабства: маскирование его в религиозные плащи; возвеличение его при помощи морали. 358 Идеальный раб («добрый человек»). Тот, кто не может мыслить себя как «цель» и, вообще, не в состоянии из себя создавать цели, тот склоняется к морали самоотречения — инстинктивно. К ней его склоняет всё: благоразумие, опыт, тщеславие. И вера есть также отречение от самого себя. Атавизм — чувство глубокого блаженства, когда представляется возможность безусловного повиновения. Прилежание, скромность, благоволение, умеренность — всё это препоны владычному {222} строю души, развитой изобретательности, постановке героических целей, аристократическому для-себя-бытию {223}. Дело идёт не о том, чтобы идти впереди (этим путём можно в лучшем случае стать пастухом, т. е. верховной и настоятельной потребностью стада), а о возможности идти самому по себе, о возможности быть иным. 359 Не мешало бы подсчитать, каких только не накопилось продуктов высшей моральной идеализации — чуть ли не все иные ценности кристаллизовались вокруг этого идеала. Это доказывает, что к этому последнему стремились упорнее всего, сильнее всего, что его не удалось достигнуть, иначе он вызвал бы разочарование (или повлёк бы за собой более умеренную оценку). Святой как самый могучий род человека — именно эта идея подняла ценность морального совершенства на такую высоту. Представьте себе, что все средства познания были пущены в ход, чтобы доказать, что самый моральный есть в то же время самый могущественный, самый божественный человек. Сила чувственности, страстей — всё возбуждало страх; противоестественное стало казаться сверхъестественным, потусторонним... 360 Франциск Ассизский {224}: влюблённый, популярный поэт — он борется против иерархической лестницы душ в интересах низших. Отрицание иерархии душ — «перед Богом все равны». Популярные идеалы: добрый человек, самоотверженный, святой, мудрый, справедливый. О, Марк Аврелий {225}! 361 Я объявил войну худосочному христианскому идеалу (вместе с тем, всему, что состоит с ним в близком родстве), не с намерением уничтожить его, а только, чтобы положить конец его тирании и очистить место для новых идеалов, для более здоровых и сильных идеалов... Дальнейшее существование христианского идеала принадлежит к числу самых желательных вещей, какие только существуют; хотя бы ради тех идеалов, которые стремятся добиться своего значения наряду с ним, а может быть, стать выше его, они должны иметь противников, сильных противников, чтобы стать сильными. Таким образом нам, имморалистам, нужна власть морали — наше стремление к самосохранению хочет, чтобы наши противники не утратили своей силы, — оно стремится только стать господином над ними. [C. О клевете на так называемые дурные свойства] 362 Эгоизм и его проблема! Христианская слепота у Ларошфуко, который всюду видел эгоизм и полагал, что этим уменьшается ценность вещей и добродетели! В противоположность этому я старался доказать прежде всего, что ничего иного, кроме эгоизма, быть не может, что у людей, у которых ego делается слабым и жидким, ослабляется сила великой любви, что наиболее любвеобильные прежде всего являются таковыми благодаря силе их ego, что любовь есть выражение эгоизма и т. д. Ложная оценка эгоизма подсказывается, в действительности, интересами: 1) тех, которым она выгодна и полезна — стаду; 2) она заключает в себе пессимистически подозрительное отношение к основе жизни; 3) она стремится к отрицанию наиболее выдающихся и удачных экземпляров человека; страх: 4) она имеет в виду содействие побеждённым в их борьбе против победителей; 5) она влечёт за собой универсальную нечестность и как раз у наиболее ценных людей. 363 Человек — посредственный эгоист: даже самый ловкий придаёт больше важности своей привычке, чем своей выгоде. 364 Эгоизм! Но никто ещё не задался вопросом: о каком ego идёт речь? Напротив, каждый невольно ставит знак равенства между данным ego и всяким другим ego. Таковы следствия рабской теории suffrage universel и «равенства». 365 Действия высшего человека несказанно многообразны в их мотивах — словом вроде «сострадание» ничего ещё не сказано. Самое существенное — это чувство «кто я? кто этот другой в отношении ко мне?» Суждения ценности никогда не перестают оказывать своего влияния. 366 Что историю всех феноменов моральности можно упростить в такой степени, как полагал Шопенгауэр, а именно так, чтобы в корне всякого морального ощущения можно было отыскать сострадание — до такой степени вздора и наивности мог дойти только мыслитель, который был совершенно лишён всякого исторического инстинкта и которому самым удивительным образом удалось ускользнуть от влияния даже того могучего воспитания историзму, через которое немцы прошли от Гердера {226} до Гегеля {227}. 367 Моё «сострадание». Это чувство, которому я не сумел бы подыскать подходящего названия — я ощущаю его там, где вижу расточительную трату драгоценных способностей у Лютера, например — какая сила и какие нелепые заоблачные проблемы (в то время, когда во Франции уже был возможен храбрый и бодрый скептицизм такого мыслителя, как Монтень {228})! Или там, где я вижу, что кто-нибудь благодаря случайности остаётся далеко позади того, что из него могло бы выйти. Или даже при мысли о жребии человечества, как в тех случаях, когда я с чувством страха и презрения присматриваюсь к европейской политике настоящего времени, которая как бы там ни было тоже трудится над тканью всего человеческого будущего. Да, что могло бы выйти из «человека», если бы! Это «моя форма сострадания», хотя для меня и не существует страждущего, которому я бы сострадал. 368 Сострадание есть расточительность чувства, вредный для морального здоровья паразит; «не может быть обязанности, предписывающей увеличивать на свете количество страдания». Когда благодетельствуют только из сострадания, то благодеяние собственно оказывается самому себе, а не другому. Сострадание покоится не на максимах, а на аффектах; оно патологично. Чужое страдание заражает нас, сострадание — это зараза. 369 Того эгоизма, который ограничился бы самим собой и не выходил бы за пределы отдельной личности, не существует, следовательно, вовсе нет и того «дозволенного» «морально-индифферентного» эгоизма, о котором вы говорите. Своё «я» всегда поощряется за счёт другого; «жизнь живёт всегда на средства другой жизни», кто этого не понимает, тот не сделал по отношению к себе даже первого шага к честности. 370 «Субъект» только фикция — ego, о котором говорят, когда порицают эгоизм, совсем не существует. 371 Ведь «я», которое нетождественно с целостным управлением нашим существом, есть только логический синтез в форме понятия, следовательно, нет никаких поступков из «эгоизма». 372 Так как всякое влечение неинтеллигентно, то по отношению к нему невозможна точка зрения «полезности». Всякое влечение, находясь в действии, требует жертвы силой и другими влечениями; в конце концов оно задерживается, иначе оно погубило бы всё — благодаря расточению сил. Итак: «неэгоистичное», приносящее жертвы, неблагоразумное не есть нечто исключительное — оно обще всем влечениям, влечения не думают о пользе целого ego (потому что они вообще не думают!), они действуют в разрез нашей пользе, против ego; а часто и в интересах ego — без всякой вины со своей стороны и в том и в другом случае. 373 Происхождение моральных ценностей. Эгоизм имеет ту же самую ценность, какую имеет в смысле физиологическом тот, кому он принадлежит. Всякий отдельный индивид представляет собой всю линию развития (а не только, как понимает его мораль, нечто такое, что возникает с момента рождения). Если он представляет подъём линии «человек», то его ценность действительно громадна; и забота о сохранении и споспешествовании его росту должна по праву быть чрезвычайной. (Забота о грядущем в его лице будущем — вот что даёт удавшемуся отдельному индивиду такое экстраординарное право на эгоизм). Если он представляет нисходящую линию, упадок, хроническое заболевание, то ценность его незначительна; и первое, на что нужно обратить внимание, это на то, чтобы он возможно меньше отнимал места, силы и солнечного света у удавшихся. В этом случае на общество падает задача подавления эгоизма (который иногда проявляется в нелепой, болезненной, бунтовщической форме), идёт ли дело об единицах или о целых приходящих в упадок, захиревших народных классах. Учение и религия «любви», подавления самоутверждения, страдания, терпения, взаимопомощи, взаимности в слове и деле может иметь внутри таких классов очень высокую ценность, даже с точки зрения господствующих; ибо они подавляют чувства соперничества, мстительности, зависти — чувства, слишком естественные для обездоленных; даже в форме идеала смирения и послушания они обожествляют в глазах этих слоёв рабское состояние подвластных, бедность, болезнь, унижение. Этим объясняется, почему господствующие классы (или расы) и отдельные индивиды всегда поощряли культ самоотвержения, евангелие униженных, «Бога на кресте». Преобладание альтруистической формы оценки есть результат инстинкта, действующего в неудачнике. Процесс оценки у стоящих на самом низу подсказывает им — «я немногого стою»; это чисто физиологическое суждение ценности; ещё яснее: чувство бессилия, отсутствие великих утверждающих чувств власти (в мускулах, нервах, двигательных центрах). Это суждение ценности переводится, смотря по культуре этих слоёв, на язык морального или религиозного суждения (преобладание религиозных или моральных суждений есть всегда признак низкой культуры): оно старается укрепить себя, прибегая к содействию тех сфер, у которых заимствовано вообще понятие ценности». Толкование, с помощью которого христианский грешник стремится уразуметь себя, представляет попытку оправдать недостаток в нём мощи и уверенности в себе; он предпочитает считать себя согрешившим, чем просто чувствовать себя плохим; то, что приходится прибегать к такого рода интерпретациям, является уже само по себе симптомом упадка. В иных случаях обездоленный причину неудачи ищет не в своей «вине» (как христианин), а в обществе: социалист, анархист, нигилист, рассматривающие своё существование как нечто такое, в чём кто-нибудь должен быть виноват, этим самым обнаруживают своё ближайшее родство с христианином, который тоже полагает, что ему легче будет переносить своё плохое и неудачное существование, если он найдёт кого-нибудь, на кого он мог бы свалить ответственность за это. Инстинкт мести и злопамятства является, и в том, и в другом случае, средством выдержать до конца, инстинктом самосохранения; совершенно так же, как и склонность к альтруистическим теории и практике. Ненависть к эгоизму, будет ли то ненависть к собственному (как у христианина) или к чужому (как у социалиста) является таким образом суждением ценности, возникшим под преобладающим влиянием чувства мести; с другой стороны, она является у страждущих продуктом их стремления к самосохранению в форме повышения у них чувств взаимности и солидарности... И, наконец, на что уже мы намекали раньше — разряжение мстительности в форме суда, осуждения, наказания эгоизма (собственного или чужого) представляется также проявлением инстинкта самосохранения у неудачников. In summa: культ альтруизма есть специфическая форма эгоизма, которая регулярно возникает при наличности определённых физиологических предпосылок. Когда социалист с красивым возмущением требует «справедливости», «права», равных прав, то он действует только под давлением своей недостаточной культуры, которая не умеет объяснить ему, почему он страдает; с другой стороны, он доставляет себе таким путём удовлетворение — если бы он чувствовал себя лучше, здоровее, то он поостерёгся бы подымать такой крик; он искал бы тогда удовольствия где-нибудь в другом месте. То же самое имеет силу по отношению к христианину: он осуждает «мир», клевещет на него, проклинает его, не исключая и самого себя. Но это не есть основание принимать всерьёз его крик. В обоих случаях мы имеем дело с больными, которым крик идёт на пользу, а клевета является облегчением. 374 Всякое общество стремится унизить своих противников, хотя бы только в представлении, до карикатуры, и как бы взять их измором. Такой карикатурой является, например, наш «преступник». При господстве римско-аристократической иерархии ценностей карикатурой служил еврей. Для художников карикатурой является «добропорядочный человек и bourgeois [114] »; для набожных — безбожный; для аристократов — человек из народа. Среди имморалистов эту роль играет моралист: для меня, например, карикатурой является Платон. 375 Все влечения и силы, которые получают одобрение морали, представляются мне в конечном выводе по существу одинаковыми с осуждаемыми и отвергаемыми ею; например, справедливость — как воля к власти, воля к истине — как средство воли к власти. 376 Самоуглубление человека. Самоуглубление возникает тогда, когда могучие влечения человека, которым с умиротворением общества преграждается возможность проявления вовне, стремятся разрядиться внутрь при содействии воображения. Потребность во вражде, жестокости, мести, насилии обращается назад, «отступает назад»; в стремлении познавать сказывается стяжательность и завоевательный инстинкт; в художнике находит своё выражение подавленная сила притворства и лжи; влечения превращаются в демонов, с которыми нужно бороться, и т. д. 377 Лживость. Каждый верховный инстинкт пользуется другими инстинктами как орудиями, придворным штатом, льстецами: он никогда не позволяет назвать себя своим некрасивым именем; и он не терпит никаких хвалебных речей, в которых похвала косвенно не распространялась бы и на него. Вокруг каждого верховного инстинкта всякого рода хвала и порицание кристаллизуются в твёрдый порядок и этикет. Это один из источников лживости. Всякий инстинкт, который стремится к господству, но который сам находится под ярмом, нуждается для поддержания своего самочувствия, для своего укрепления во всевозможных красивых именах и признанных ценностях; поэтому он решается заявить о себе большей частью лишь под именем того «господина», с которым он борется и от которого он стремится освободиться (например, при господстве христианских ценностей запросы плоти или желание власти). Это другой источник лживости. В обоих случаях господствует совершенная наивность: лживость не сознаётся. Когда человек начинает видеть движущий инстинкт и его «выражение» («маску»), отдельно друг от друга, то это признак подавленного инстинкта, показатель самопротиворечия, едва ли обещающий победу. Абсолютная невинность в жесте, в слове, в аффекте, «чистая при всей лживости совесть», уверенность, с которой прибегают к самым торжественным и великолепным словам и позам — всё это необходимые условия победы. В противном случае, кроме крайней проницательности необходим был бы гений актёра и колоссальная дисциплина самообладания, чтобы победить. Поэтому священники — самые ловкие сознательные лицемеры; затем идут властители, в которых их положение и происхождение воспитывают некоторого рода актёрство. В-третьих, — люди общества, дипломаты; в-четвёртых, женщины. Основная мысль; лживость заложена так глубоко, проявляется так всесторонне, воля в такой сильной степени направлена на борьбу с прямым самопознанием и называнием всего собственными именами, что большую вероятность приобретает следующее предположение: истина, воля к истине есть собственно совсем не то, за что они себя выдают, и тоже только маска. (Потребность в вере есть величайший тормоз для правдолюбия). 378 «Не лги» {229} — требуют правдивости. Но признание факта (нежелание позволить, чтобы тебя вводили в заблуждение) как раз у лгунов и было всегда ярче всего выражено — они-то именно и распознали нефактический характер этой популярной «правдивости». Постоянно говорят слишком много или слишком мало; требование обнажать себя в каждом слове, которое произносится, есть наивность. Говорят то, что думают, и правдивы только при известных условиях, а именно, при предположении, что говорящий будет понят (inter pares [115] ) и понят благожелательно (опять-таки inter pares). Скрытность обнаруживается по отношению к тем, кто нам чужд, а кто хочет чего-нибудь достичь, тот говорит то, что он хотел бы, чтобы о нём думали, но не то, что он действительно думает. («Могучий лжёт всегда»). 379 Великое нигилистическое производство фальшивой монеты при помощи ловкого злоупотребления моральными ценностями: a) Любовь как самоотречение; точно так же — страдание. b) Только обезличенный интеллект («философ») познаёт истину («истинное бытие и сущность вещей»). c) Гений; великие люди велики потому, что они не ищут самих себя и своего дела; ценность человека растёт по мере того, как он отрекается от самого себя. d) Искусство как творчество «чистого, свободного от воли субъекта»; неправильное понимание «объективности». e) Счастье как цель жизни; добродетель как средство к цели. Пессимистическое осуждение жизни у Шопенгауэра имеет моральный характер. Перенесение стадных масштабов в область метафизическую. «Индивид» лишён смысла, следовательно, начало его нужно искать в «бытии в себе» (смысл его существования как «заблуждение»), родители — только «случайные причины». Непонимание наукой индивида здесь мстит за себя — он есть вся предыдущая жизнь в одной линии, а не её результат. 380 1) Принципиальная фальсификация истории, предпринимаемая с той целью, чтобы она могла служить доказательством правильности моральной оценки: a) падение народности и испорченность; b) подъём народности и добродетель; c) высшая точка развития народа («его культура»), как следствие моральной высоты. 2) Принципиальная фальсификация великих людей, великих созидателей, великих времён: хотят, чтобы вера была отличительным признаком великих, но в действительности величие характеризуется решительностью, скептицизмом, «безнравственностью», умением расстаться с известной верой (Цезарь, Фридрих Великий, Наполеон; но также и Гомер, Аристофан, Леонардо, Гёте). Утаивают постоянно самое главное — «свободу воли». 381 Великая ложь в истории — будто испорченность церкви была причиной Реформации {230}. Она была только предлогом, самообманом со стороны её агитаторов — возникали новые мощные потребности, грубость которых очень нуждалась в духовной мантии. 382 Шопенгауэр истолковал высокую интеллектуальность как освобождение от воли; он не желал замечать того процесса освобождения от моральных предрассудков, который связан с раскрепощением великого духа, не хотел замечать типичной безнравственности гения; то, перед чем он единственно преклонялся, именно моральную ценность, он произвольно сделал условием также и высшей формы духовной деятельности «объективного» созерцания. И в искусстве «истина» также обнаруживается только с устранением воли... Во всей этой моральной идиосинкразии я вижу, как проходила глубоко различная оценка: более нелепого отделения гения от мира морали и имморали я не знаю. Моральный человек представляет собой низший и более слабый вид сравнительно с безнравственным; более того, он со стороны своей морали представляет известный тип, но только не оригинальный тип, а копию, в лучшем случае — хорошую копию, мера его ценности лежит вне его. Я ценю человека по степени мощи и полноты его воли, а не по мере угасания и ослабления этой воли; я рассматриваю философию, которая учит отрицанию воли, как учение принижения и оклеветания... Я ценю силу известной воли по тому, какую меру сопротивления, боли, мучения она может перенести и обратить себе на пользу; я не ставлю существованию человека в упрёк его злого и причиняющего боль характера, а питаю надежду, что оно когда-нибудь станет ещё более злым и будет причинять ещё больше боли. Вершиной развития духа в представлении Шопенгауэра было постижение того, что всё лишено смысла, короче говоря, постижение того, что добрый человек уже инстинктивно делает... Он отрицает, что могут существовать более высокие виды интеллекта, он смотрел на своё понимание как на nоn plus ultra [116] . Здесь духовность поставлена глубоко ниже доброты; её наивысшая ценность (например, как искусства) заключалась бы в способности возбудить и подготовить моральный переворот — абсолютное господство моральных ценностей. Наряду с Шопенгауэром я имею в виду так охарактеризовать Канта: ничего греческого, абсолютно противоисторический характер (место, относящееся к Французской революции) {231} и моральный фанатик (гётевское замечание о радикально злом) {232}. И у него в основе святость... Мне нужна критика святого... {233} Ценность Гегеля. «Страсть». Философия господина Спенсера как философия лавочника {234}: полное отсутствие идеала, если не считать идеала среднего человека. Инстинктивный принцип всех философов и психологов: всё, что есть ценного в человеке, искусстве, истории, науке, религии, технике, — должно доказать свою моральную ценность, моральную обусловленность в целях, средствах и результате. Понять всё в отношении к высшей ценности — пример: вопрос Руссо относительно цивилизации: «Становится ли человек благодаря ей лучше?» {235} Смешной вопрос, так как противоположное ясно как день и есть именно то, что говорит в пользу цивилизации. 383 Религиозная мораль. Аффект, сильное желание, страсть к власти, страсти любви, мести, обладания — моралисты хотят заглушить их, вырвать вон, «очистить» от них душу. Логика такова: страсти часто являются источником больших бед — следовательно, они дурны, предосудительны. Человек должен освободиться от них — раньше он не может быть добрым человеком... Это та же самая логика, что и в правиле: «Если член твой соблазняет тебя, вырви его» {236}. В том особенном случае, который имел в виду в своих советах ученикам опасный своей непорочностью основатель христианства, т. е. в случае повышенного полового возбуждения, человек лишился бы, к сожалению, не только известного члена, но и утратил всю мужественность характера. Тоже самое относится и к безумию моралистов, требующих вместо укрощения страстей их удаления с корнем. Их вывод всегда один и тот же: только человек, лишённый мужественности, есть добрый человек. Заглушить великие источники силы, эти подчас столь опасные и прорывающиеся с такой дикой стремительностью душевные потоки — вместо того, чтобы обратить себе на службу их мощь и экономизировать последнюю — вот чего добивается эта страшно близорукая и пагубная точка зрения, — точка зрения морали. 384 Преодоление аффектов? Нет — если это должно обозначать их ослабление и уничтожение. А заставить их служить себе; для чего, правда, нужно их долго тиранизировать (и не только в отдельности, а как общину, расу и т. д.). В заключение им возвращают, вместе с доверием, свободу: они любят нас как добрые слуги и добровольно идут в ту сторону, куда направляется лучшая часть нашего «я». 385 Нетерпимость морали есть признак слабости человека — он боится своей «неморальности», он должен отрицать свои сильнейшие влечения, потому что он ещё не умеет употреблять их себе на пользу. Таким образом остаются дольше всего необработанными плодороднейшие места земли — отсутствует сила, которая могла бы стать здесь хозяином... 386 Существуют совершенно наивные народы и люди, которые верят, что постоянно хорошая погода есть нечто желательное; они верят ещё и теперь in rebus moralibus [117] , что только «добрый человек» желателен и ничто кроме него и что ход человеческого развития совершается именно в таком направлении, чтобы только он один уцелел (и только в эту сторону должны направляться все усилия)... Такое воззрение в высшей степени неэкономно и, как уже сказано, представляет верх наивности, и есть не что иное, как выражение приятного ощущения, которое доставляет «добрый человек» (он не возбуждает боязни, он позволяет освободиться от напряжения, он даёт то, что приемлемо).

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

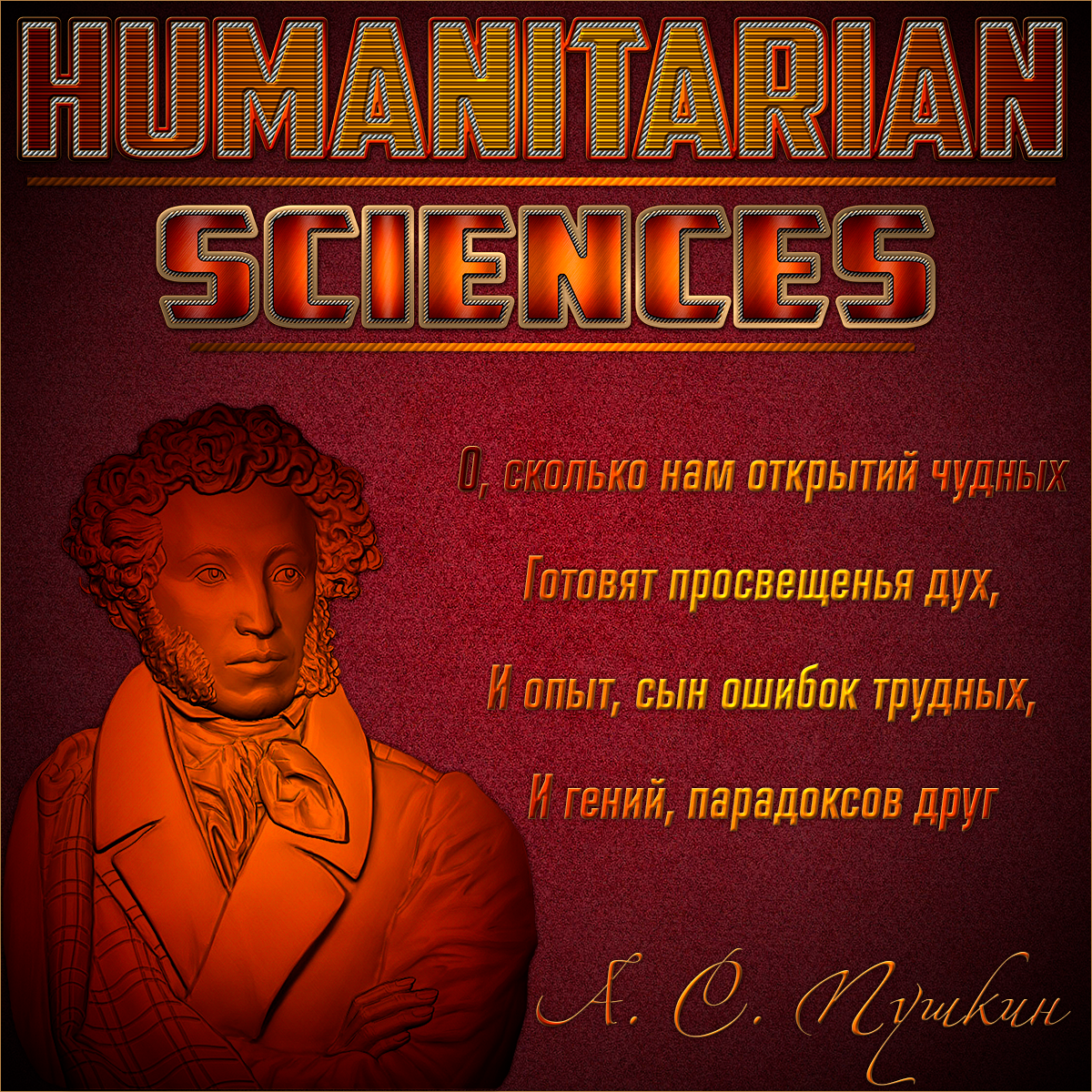











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




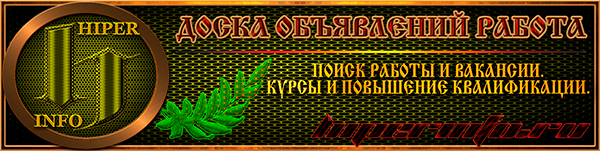

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.