- 100409 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
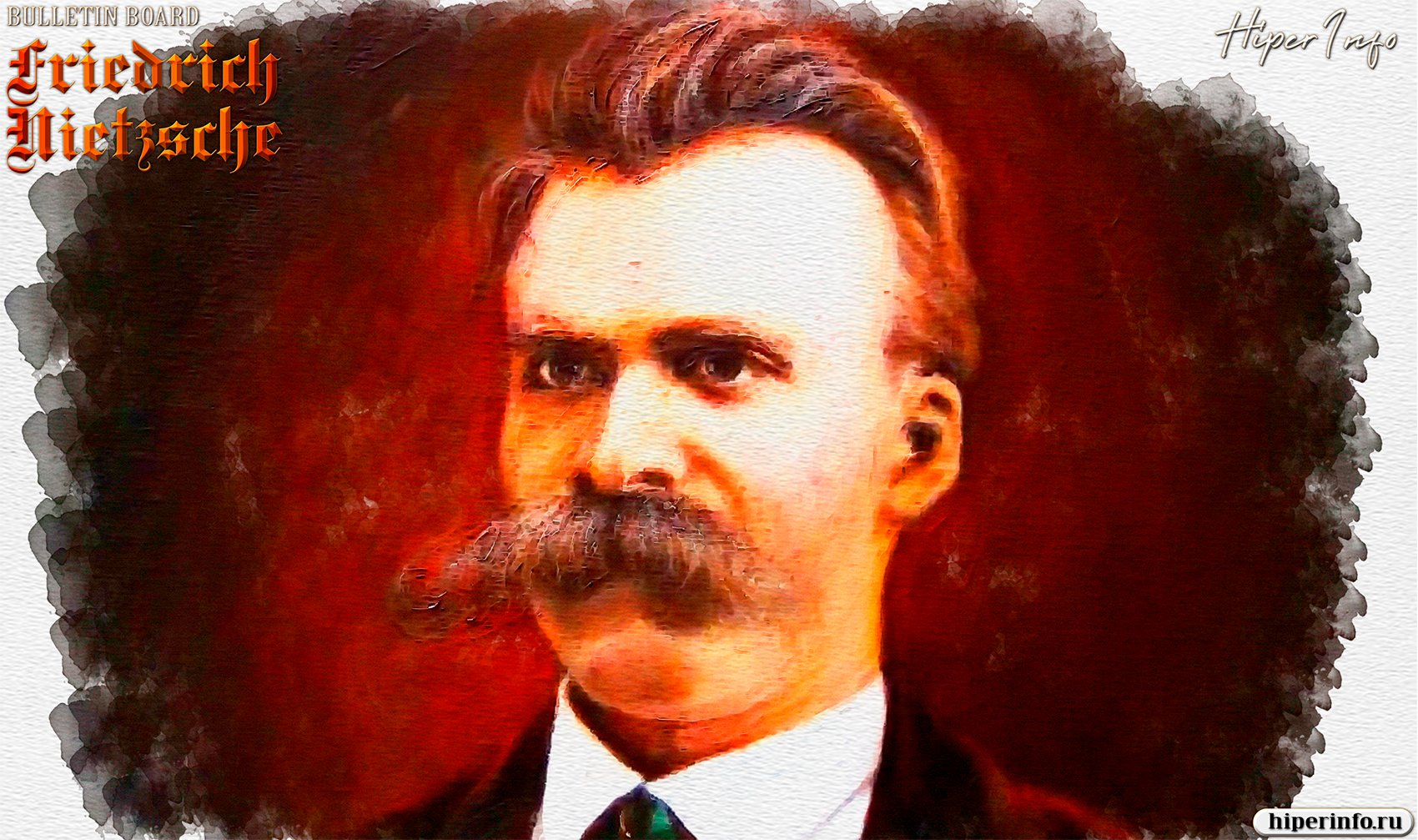
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




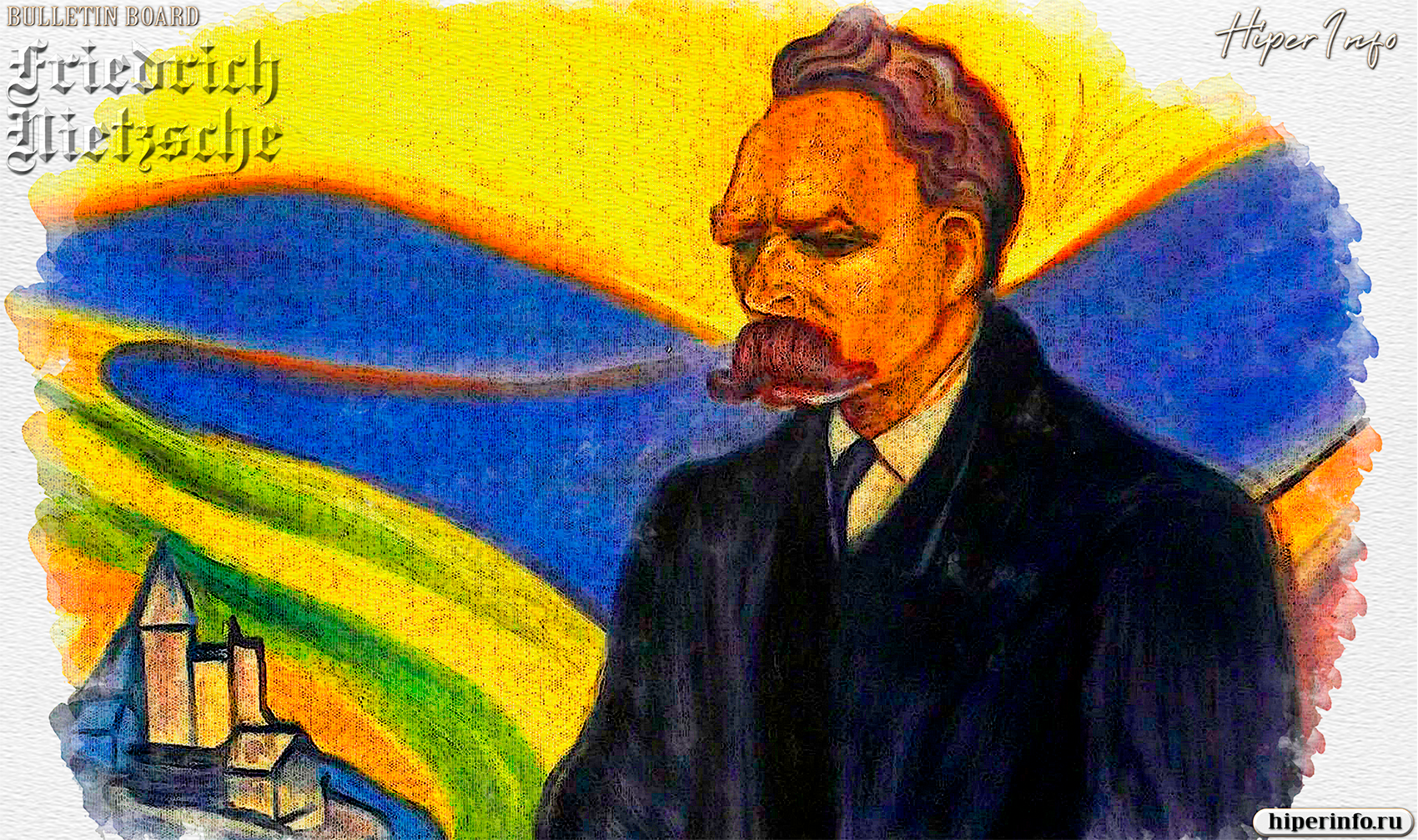




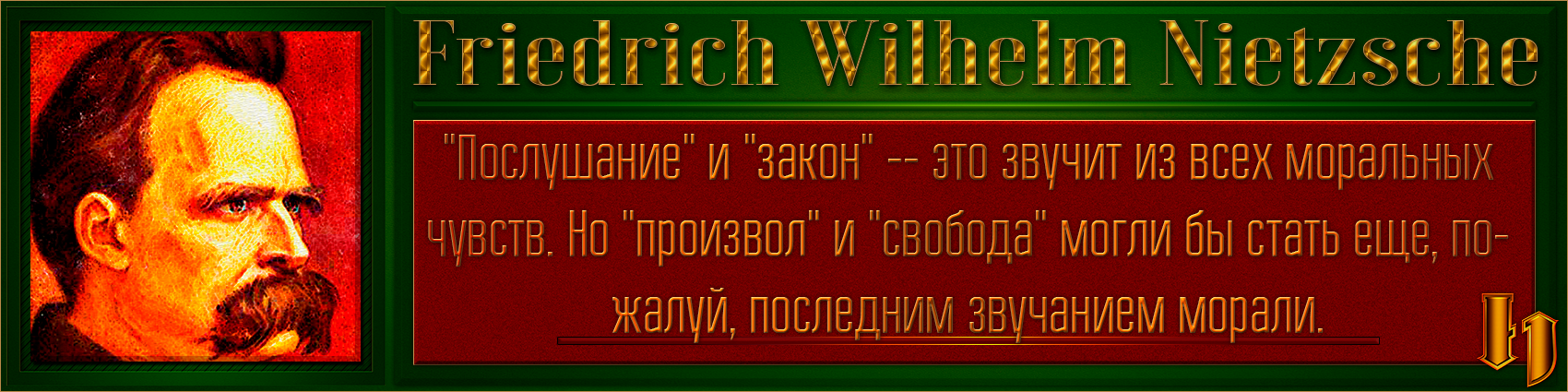


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
УТРЕННЯЯ ЗАРЯ
ИЛИ МЫСЛЬ О МОРАЛЬНЫХ ПРЕДРАССУДКАХ

Безусловные подчинения. — Если подумаешь о немецких философах, которых больше всего читают; о немецких музыкантах, которых больше всего слушают; о немецких государственных людях, самых уважаемых, то придется согласиться, что немцам, этому народу безусловных чувств, теперь становится поистине горько — именно от их собственных великих людей. Там можно трижды видеть великолепное зрелище: каждый раз реку в ее собственном, ею же самой прорытом русле, которая движется так величественно, что часто может показаться, как будто она хочет подняться в гору. И, однако, как бы ни было велико уважение к этому величественному потоку, — кто не высказался бы охотно против Шопенгауэра! Кто может быть теперь одного мнения с Р.Вагнером? И, наконец, многие ли от всего сердца соглашаются с Бисмарком, если только он сам согласен с самим собой, или только показывал вид, что это так? Действительно: человек без глубоких основных положений, но с глубокими страстями, подвижный дух на службе сильных глубоких страстей, потому-то и без основных глубоких положений: в государственном человеке это не должно казаться странным; наоборот — это должно быть вполне правильным и естественным. Но, к сожалению, до сих пор это так глубоко противоречило немецкому характеру! И на что годны вообще эти три образца, которые не хотят жить в мире даже между собой! Шопенгауэр противник музыки Вагнера; Вагнер противник политики Бисмарка; Бисмарк противник всякого вагнерства и шопенгауэрства! Что остается делать! Куда обратиться со своей жаждой "стадной преданности”! Может быть, можно выбрать себе из музыки музыканта несколько сот тактов хорошей музыки, которые могут тронуть чье-нибудь сердце, и к которым лежит чье-нибудь сердце, потому что они имеют сердце; может быть, можно будет уйти куда-нибудь и скрыться с этой поклажей, а все остальное — забыть? Может быть, то же самое можно проделать с произведениями философа и государственного человека — выбрать, отдаться этому всем сердцем, и все остальное — забыть? Да. если бы только забвение не было так трудно! Был один очень гордый человек, который хотел слышать о себе все: и хорошее и дурное, но когда ему понадобилось забвение, он не мог дать его себе самому, но должен был трижды заклясть духов: они явились, выслушали его требования и, наконец, сказали ему: "только это одно не в нашей власти”! Не должны ли немцы воспользоваться опытом Манфреда? Зачем же еще заклинать духов! Это бесполезно: не забывают, когда хотят забыть! И как велик был бы этот "остаток” от этих трех гигантов нашего времени, который пришлось бы забывать, чтобы можно было сделаться их поклонниками! Экономнее, однако, воспользоваться удобным случаем и поискать чего-нибудь нового: именно сделаться более честным к самим себе и из народа легковерного поклонения и слепой озлобленной вражды превратиться в народ осторожной критики и благосклонной борьбы. Но прежде всего надо понять, что безусловное преклонение пред кем-нибудь есть нечто смешное, что учиться для немца не позорно, и что есть одна глубокого смысла, стоящая запоминания пословица: ce qui importe, ce ne sont point les personner mais les choses (важны не лица, а дела). Этот афоризм, как и тот, кому он принадлежит, велик, силен, прост и немногословен — вполне как Кеарно, солдат и республиканец. Но, может быть, немцам нельзя так отзываться о французе, и вдобавок еще о республиканце? Может быть, и нельзя; может быть, даже немцы не желают вспоминать о французах! Но великий Нибур говорил своим современникам, что никто не производил на него такого впечатления истинного величия, чем Карно. Образец. — Что нравится мне в Фукидиде? За что я чту его выше Платона? Он очень глубоко и простодушно радуется каждому типичному человеку и каждому типичному случаю; он находит, что в каждом типе есть доля разумного: и он старается открыть его. У него больше практической правдивости, чем у Платона; она не унижает человека, не взваливает на него бремя недостатков и пороков, если он не нравится ему или причинил ему какое-нибудь зло. Наоборот, видя только типы, он находит во всех лицах нечто великое: что было бы делать потомству, которому он посвящает свой труд, с тем, что типично! таким образом, в нем, человеке-мыслителе, достигла последнего великолепного расцвета та культура непосредственного познания мира, которая в Софокле имела своего поэта, в Перикле — своего государственного человека, в Гиппократе — своего врача, в Демокрите — своего естествоиспытателя; та культура, которая заслуживает быть окрещенной именем своих учителей, софистов, и которая к сожалению, с момента этого крещения становится для нас бедной и непонятной: мы теперь подозреваем, что эта культура была, вероятно, очень безнравственной, если против нее боролся Платон и все сократовские школы! Правда здесь так запутана и загромождена, что отпадает всякая охота откапывать ее: так иди же старая ошибка (error veritate simplicior) своей старой дорогой! Героическое нам очень чуждо. — Восточное или современное, азиатское или европейское: сравнительно с греческим всему этому свойственны массивность и чувственность в большом размере, как языку возвышенного; между тем в Пестуме, Помпеях, Афинах и пред всей вообще греческой архитектурой останавливаешься с удивлением, — с помощью каких малых размеров греки умеют и любят выражать все возвышенное. Точно также — какими простыми рисовались в представлении греков люди! Как превосходим мы их в познании человека! И какой зато лабиринт представляют теперь наши души и наши представления о душах сравнительно с ними! Если бы мы захотели и отважились создать архитектуру по образцу наших представлений о душе, — мы создали бы лабиринт! Об этом позволяет догадываться наша музыка, действительно представляющая нас! В музыке человек выступает открыто, воображая, что из-за музыки ни кто не увидит его самого. Другие перспективы чувства. — Что за бессмыслицу говорим мы о греках! Что понимаем мы об их искусстве, душой которого служит страсть к мужской обнаженной красоте! Только из-за этого почувствовали они и женскую красоту. Таким образом, они имели для нее совершенно другую перспективу, чем мы. Так же обстояло дело и с их любовью к женщине: они уважали иначе, они презирали иначе. Питание современного человека. — Он умеет переварить многое, даже — почти все: это его гордость! Но он принадлежал бы к высшему порядку именно в том случае, если бы он не имел homo pamphagus (всеядный человек) далеко не совершенный вид. Мы живем в промежутке между прошлым, имевшим более извращенный и более своенравный вкус, и будущим, которое будет иметь вкус, может быть, более отборный, — мы живем в самой середине. Трагедия и музыка. — Людей с воинственным настроением духа, как, например, греков времен Эсхила, трудно тронуть, и если иногда сострадание одерживает верх над жестокостью, то оно охватывает их как вдохновение, подобно "демонической силе”, - тогда они чувствуют себя лишенными свободы, связанными, охваченными религиозным страхом. Пока они находятся в этом состоянии, они вкушают наслаждение переживанием чужой жизни, того дивного состояния, смешанного с горчайшей полынью страдания; это самый подходящий напиток для воинов, нечто обыкновенное, опасное, горько-сладкое, что не всякому дается в удел. Трагедия и обращается к этим душам, как испытывающим сострадание, к жестоким, воинственным душам, которые трудно одолеть как страхом, так и состраданием, но которым полезно от времени до времени быть смягченным им: да и на что трагнедия тем, которые стоят вечно готовыми для "симпатических аффектов”, как паруса для ветров! Когда афиняне сделались мягче и чувствительнее, во времена Платона, им далеко еще до отзывчивости жителей наших больших и малых городов, но философы уже жаловались на вред трагедии. Век полный опасности, какой теперь начинается, и в котором храбрость и мужественность получают большее значение, может быть, мало-помалу снова сделает души жесткими, так что им понадобятся трагические поэты: но теперь они несколько излишни — если употребить мягкое выражение. — Может быть, и для музыки придет некогда лучшее время — тогда, когда художникам придется обращаться с нею к людям с вполне развитой личностью, твердым, страстным, — а к чему музыка теперешним непостоянным, непоседливым, недоразвившимся, полуличным, любопытным, похотливым душонкам уходящего века? Панегиристы труда. — Когда я слушаю или читаю восхваления "труда”, неутомимые речи о "счастье труда”, я вижу во всех них ту же самую заднюю мысль, как и в похвалах общеполезных безличных деяний: страх перед всякой индивидуальностью. В сущности же чувствуют теперь, что "труд” — разумеется, тот суровый труд с утра до вечера — есть лучшее средство удерживать каждого в известной ограде и мешать развитию независимости. Он требует необыкновенно большого напряжения сил и отвлекает человека от размышлений о себе, от мечтаний, забот, любви, ненависти, он ставит ему перед глазами постоянно маленькую цель и дает легкое и постоянное удовлетворение. Таким образом, общество, где будет развит постоянный упорный труд, будет жить в большой безопасности, а безопасность — высший рай для нас. А теперь! О, ужас! Именно "работник” сделался опасным! Везде кишат "опасные индивидуумы”! а сзади них опасность опасностей — individuum! Моральная мода общества. — Позади основного положения теперешней моральной моды: "моральные поступки суть поступки вытекающие из симпатии к другим”, - я вижу действие социальной склонности к трусости, которая таким образом маскируется интеллектуально: эта склонность считает высшей, важнейшей и ближайшей задачей — избавить жизнь от всякой опасности и требует, чтобы каждый всеми силами содействовал этому: потому все те поступки, которые имеют целью всеобщую безопасность и чувство безопасности, получают предикат "хороших”. — Как мало, однако, радости должны испытывать теперь люди, если высший нравственный закон предписывается им такой тиранией трусости, если они беспрекословно позволяют ей приказывать себе смотреть мимо себя и зорко следить только за чужими бедами и за чужими страданиями! При такой страшной цели — стесать у жизни все острое и выдающееся — не становимся ли мы на дорогу самую пригодную для того, чтобы превратить человечество в песок? Песок! мелкий, мягкий, бесполезный песок! Таков ли ваш идеал, вы, провозвестники альтруизма! А между тем остается без ответа вопрос — полезнее ли бывает для другого тогда, когда ему постоянно непосредственно содействуют и помогают (однако эта помощь бывает всегда поверхностна, где отношения между этими лицами не превращаются в тиранию) или тогда, когда образуют из себя самого нечто такое, на что другой смотрит с удовольствием, как бы прекрасный, спокойный, в самом себе замкнутый сад, имеющий высокие стены для защиты от уличной пыли, но в то же время и гостеприимные двери. Основная идея культуры тонкого века. — Теперь часто можно видеть такое культурное общество, душой которого служит торговля, как у древних греков душой общества было личное состязание, а у римлян — война, победа и право. Торговец умеет все оценить и притом оценить по нуждам потребителя, а не по своим личным нуждам, "кто и сколько людей будут потреблять это?”, - во т его вопрос вопросов. Этот тип оценки он применяет инстинктивно и непрерывно ко всему — к произведениям искусств, наук, мыслителей, ученых, художников, государственных людей, народов и партий, даже к целому веку: обо всем, что создается, он спрашивает; будет ли на это спрос, можно ли явиться на рынок с таким предложением, — спрашивает для того, чтобы установить цену на вещь. Этот прием становится характером целой культуры, приводится самым последовательным и аккуратным образом, направляет волю, силы: это — то, чем будите гордиться вы, люди будущего века, если правду говорят пророки торгового класса. Но и мало верю в эти пророчества. Критика отцов. — К чему касаться правды о недавнем прошлом? Потому что теперь живет новое поколение, которое чувствует себя в антагонизме с этим прошлым и в этой критике наслаждается первыми плодами чувства власти. Прежде было наоборот, новое поколение хотело полагать в основу своей жизни старину, и начинало себя чувствовать только тогда, когда оно не только принимало взгляды отцов, но и принимало их возможно строже. Критика отцов считалась пороком: теперешние молодые идеалисты начинают именно с нее. Учиться одиночеству. — О вы, бедняки в великих городах мировой политики, вы, молодые, даровитые, терзаемые честолюбием люди, считающие своей обязанностью при всяком случае (а случай не заставляет себя ждать) сказать свое слово! Вы, которые, производя таким образом пыль и шум, считаете себя колесницей истории! Вы, которые постоянно приглядываетесь к моменту, постоянно ищете момента, когда можно было бы приткнуть свое слово, вы теряете всякую реальную продуктивность! Пусть такие люди жаждут великих дел: они не способны произвести что-нибудь на свет; события дня гонят их перед собой, как мякину, а они воображают, что они гонят вперед события дня, — бедняки! Предмет ежедневного потребления. — У этих молодых людей нет недостатка ни в характере, ни в даровании, ни в прилежании, но им никогда не давалось возможности дать самим себе направление: и они с детских лет привыкли ловить направление. Когда же они стали довольно зрелыми для того, чтобы "быть высланными в пустыню”, с ними поступили иначе, ими пользовались, их воровали у них самих, воспитывали их для того, чтобы сделать из них предмет постоянного потребления для других, и внушили им соответственное учение об обязанностях, — и теперь они не могут отделаться от этого, да и не хотят перемены. ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИКА, НАРОДЫ Государство. — Все экономические и социальные отношения не могут и не должны стоить того, чтобы ими занимались только самые даровитые умы: такое злоупотребление умом хуже отсутствия ума. Есть области труда для незначительных голов, и другие, кроме незначительных голов, не должны работать в этой мастерской: пусть лучше машина разобьется вдребезги! Но так, как обстоит дело теперь, когда все не только думают, что надобно не только интересоваться экономическими и социальными вопросами, но и ежеминутно участвовать в них и жертвовать для них своим трудом, — получается великое и смешное безумие. Создать общество, где не было бы воров, поджогов, которое было бы бесконечно удобно для торговли, — и создать охрану такого общества — такая цель не из столь высоких, чтобы для достижения ее пускать в дело высшие средства и орудия: их следует приберечь для более высоких и более редких целей! Хотя в наш век и говорят об экономии, но наиболее драгоценное — дух — расточают самым непроизводительным образом. Войны. — Великие войны нашего времени суть продукт исторического изучения. Прямолинейная последовательность. — Говорят с большой похвалой: "Это — характер!” Да! Если он обнаруживает прямолинейную последовательность, если последовательность эта сквозит даже в его тупых глазах! Но если человек обладает тонким, глубоким умом, если он последователен в высоком, разумном значении этого слова, зрители отрицают существование в нем характера. Поэтому многие хитрые политики играют свою комедию под прикрытием последовательности. Старое и молодое. – "В парламенте совершаются вещи безнравственные: там говорят против правительства”, - такова была одиннадцатая заповедь старой Германии. Теперь над этим смеются как над устаревшей модой: но прежде это был вопрос морали! Может быть, некогда будут смеяться и над тем, что считается теперь моральным у молодых поколений, получивших парламентское воспитание: именно над модой ставить политику партий выше своего собственного ума, и при каждом ответе на вопросы общественного блага сообразовываться с ветром, дующим в паруса партии. "Имей такой взгляд на вещи, какого требует партия”, - так гласит их канон. На службе такой морали приносятся теперь всевозможные жертвы: здесь уничтожается личность, здесь есть свои мученики. Государство, как произведение архитекторов. — В странах мировых людей всегда найдется некоторое количество неустойчивых, разнузданных лиц, которые собираются в социалистические партии. Если бы когда-нибудь дошло дело до того, что они стали бы давать законы, то можно быть вполне уверенным, что они наложили бы на себя железные цепи и установили бы страшную дисциплину — ведь они знают себя! И они выдержали бы эти законы в сознании, что они сами дали их. Чувство власти, именно этой власти, слишком ново и слишком возбуждающе для них, чтобы они не вытерпели всего ради него. Нищие. — Нищих надобно удалять: неприятно давать им и неприятно не давать им. Люди дела. — Ваше занятие — это ваш величайший предрассудок, оно привязывает вас к вашему месту, к вашему обществу, к вашим склонностям. Прилежные в занятии, ленивые духом, довольные своею бедностью, повесив над этим довольством передник обязанности, — так живете вы, к тому же готовите и своих детей. О великой политике. — Хотя польза и тщеславие отдельных лиц и целых народов и оказывают свое влияние в великой политике, но сильнейшей водой, гонящей их вперед, является все-таки потребность чувства власти, которая пробивается наружу не только в душах государей, но временами бьет ключом и в душах людей, принадлежащих к низшему слою народа. Постоянно повторяются минуты, когда масса бывает готова жертвовать своим имуществом, своею жизнью, своей совестью, своей добродетелью, для того чтобы получить высшее наслаждение власти и тиранически произвольно распоряжаться другими нациями в качестве победоносной нации. Тогда обильно бьют наружу источники самых разнообразных настроений — щедрости, самопожертвования, надежды, доверия, отваги, воображения. Потому-то великие завоеватели пользовались всегда для своих целей патетическим языком: они имели около себя всегда такие массы, которые находились постоянно только в приподнятом состоянии и хотели слушать только возвышенную речь. Поразительная бессмыслица моральных суждений! Если человек находится в упоении чувства власти, он чувствует себя хорошо и называет себя хорошим, а другие, на которых он должен распространить свою власть, чувствуют и называют его дурным. В басне о человеческих возрастах Гезиод нарисовал один и тот же век, именно век гомеровских героев, два раза один вслед за другим, и сделал два века из одного: с точки зрения тех, которые стояли под железным страшным давлением этих искавших приключений богатырей, или с точки зрения тех, которые слышали об этом от своих предков, кому он представлялся дурным; а потомки этих рыцарских племен почитали в нем хороший, старый, благословенный век. Поэт не мог сделать ничего другого, кроме того, что он сделал; ведь он имел около себя слушателей того и другого народа! Прежнее немецкое образование. — Когда немцами стали интересоваться другие народы Европы, то это произошло единственно благодаря образованию, которого теперь у них нет уже, и которое они отбросили прочь со слепым ожесточением, как будто оно было болезнью, но ничем лучшим они не могли его заменить, как политическим и национальным ослеплением. Правда, они добились этим, что сделались еще интереснее для других народов, чем прежде, когда вызывали к себе интерес своим образованием: и могут теперь быть довольны! Но нельзя отрицать, что то немецкое образование одурачило европейцев, и что оно не заслуживало такого интереса, такого подражания и такого усердного поклонения. Оглянитесь теперь еще раз на Шиллера, Вильгельма фон Гумбольдта, Гегеля, Шеллинга, почитайте их письма и войдите в великий круг их поклонников: общая черта всех их, которая бросится вам в глаза, и невыносима, и жалка! Во-первых, желание показаться морально настроенными — и притом добиться этого какой бы то ни было ценой; затем погоня за блестящими, лишенными плоти отвлеченностями. Это нежный, благонравный, убранный серебром идеализм, который хочет притвориться благодарным в манерах и в голосе, — вещь настолько смелая, насколько и простодушная, одушевляемая исходящим из глубины сердца отвращением к "холодной” и "сухой” действительности, к анатомии, к полным страстям, ко всякого рода философской воздержанности и скептицизму, но зато и к познанию природы. Свидетелем этого направления немецкого образования был Гете, но он относился к нему своим, особенным образом: стоя рядом с ним, тихо сопротивляясь, молча, все крепче и крепче становясь на своей, лучшей дороге. Позднее его застал еще и Шопенгауэр, — ему снова сделался видим действительный мир и чертовщина мира, и он говорил об этом насколько грубо, настолько и воодушевленно, ибо эта чертовщина имеет свою красоту! Так что же в сущности так прельщало иностранцев? Тот слабый блеск, тот загадочный свет млечного пути, который виден был вокруг этого образования: при этом иностранец говорил: "Это от нас очень, очень далеко, туда едва достигает наше зрение и слух, мы мало знаем это, мало можем насладиться им, мало оценить, но, тем не менее, это — звезды! Не открыли ли немцы потихоньку уголок неба и не поселились ли там? Надобно постараться поближе подойти к немцам”. И подошли к ним поближе; между тем как те же самые немцы почти сейчас же начали стараться о том, чтобы стряхнуть с себя блеск млечного пути: они слишком хорошо знали, что они были не на небе, а в облаках! Лучшие люди! — Мне говорят: наше искусство обращается к жадным, ненасытным, необузданным, разбитым людям настоящего и показывает им благословенные возвышенные картины чистой жизни рядом с картиной их пустыни: они забываются и могут отдохнуть за этим созерцанием, и, может быть, из этого забвения они вынесут проклятие своей жизни и желание перемены. Бедные художники, если им приходится иметь дело с такой публикой! Иметь такие полужреческие, полу-докторские цели! Насколько счастлив был Корнель — "наш великий Корнель”, как восклицание madame de-Sevigne с обычным удивлением женщины пред великим человеком, — насколько выше была его аудитория, если он мог быть ей полезным, рисуя рыцарские доблести, строгость обязанностей, великодушие жертвы, геройское самообладание! Как иначе любили бытие и сам Корнель и его слушатели не из слепой разнузданной "воли”. Которую проклинают, потому что не могут убить ее, но как такое место, где совместимы величие и гуманность, и где даже самое строгое принуждение форм, подчинение правительственной или умственной власти, не может убить ни гордости, ни рыцарского благородства, ни красоты, ни духа индивидуума, и где, наоборот, развивается прирожденное самодержавие и величие, и наследственная всласть воли и страсти. Значение хороших противников. — Говорят, что французы были когда-то самым христианским народом на земле: не в том смысле, что народные массы были у них более верующими, чем где-либо, но в том, что у них были люди, которые осуществили в себе самые трудные христианские идеалы. Вот Паскаль — соединение страсти, ума и честности. Вот Фенелоп, полное и чарующее выражение церковной культуры во всех ее силах: золотая середина, представляющая нечто несказанно трудное и невероятное. Вот madame de Cuyon среди подобных ей французских квиетистов: и все, что старалось разгадать горячее красноречие апостола Павла о состоянии самого возвышенного, самого любящего, самого смиренного и самого восторженного христианина, было там действительностью, имея при этом благородную женственную, изящную, старофранцузскую наивность в словах и манерах. Вот основатель трапнистских монастырей, один из последних, серьезно относившихся к аскетическому идеалу, — он не был исключением среди французов; напротив, был настоящим французом, его суровое творение могло родиться и развиться только среди французов и последовало за ним в Эльзас и в Алжир. Вспомнить и гугенотов: более красивого союза воинственного и трудового духа, утонченных нравов и христианской строгости до сих пор не было. И в порт-Рояле в последний раз расцветала христианская ученость, и этот цвет великие люди во Франции понимают лучше, чем где-либо в другом месте. Не желая быть поверхностным, великий француз, однако, всегда бывает поверхностным, — между тем как глубина великого немца держится замкнутой, как элексир, который старается защититься от света и легкомысленных рук своей жестокой чудесной оболочкой. — Теперь можно разгадать, почему этот период совершенных типов христианства должен был производить также и противоположные типы не христианского свободного духа! Французскому свободному духу приходилось бороться всегда с великими людьми, а не только с уродами, с которыми боролся свободный дух других народов.

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

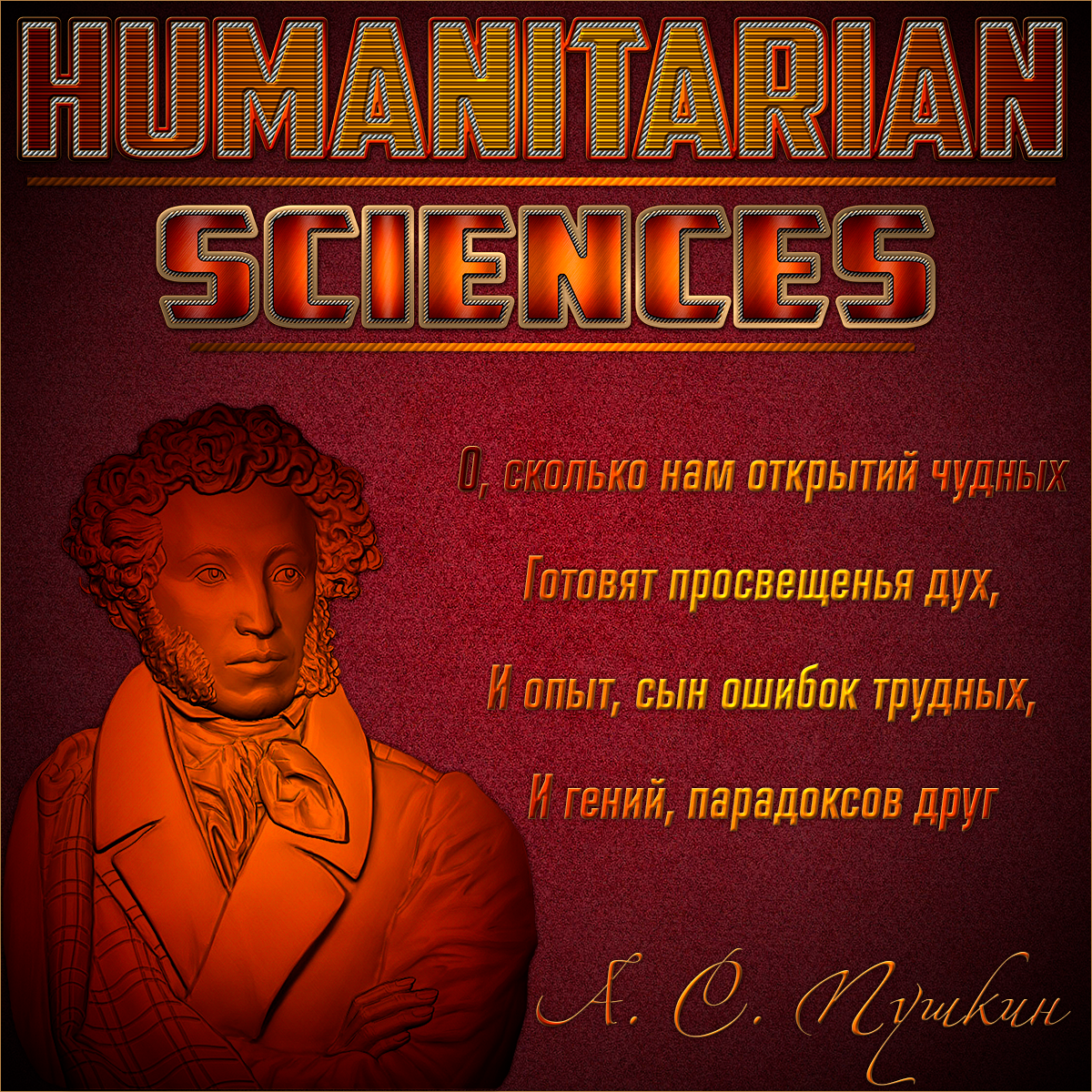











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




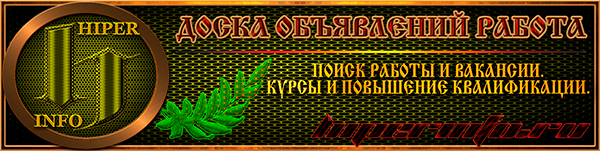

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.