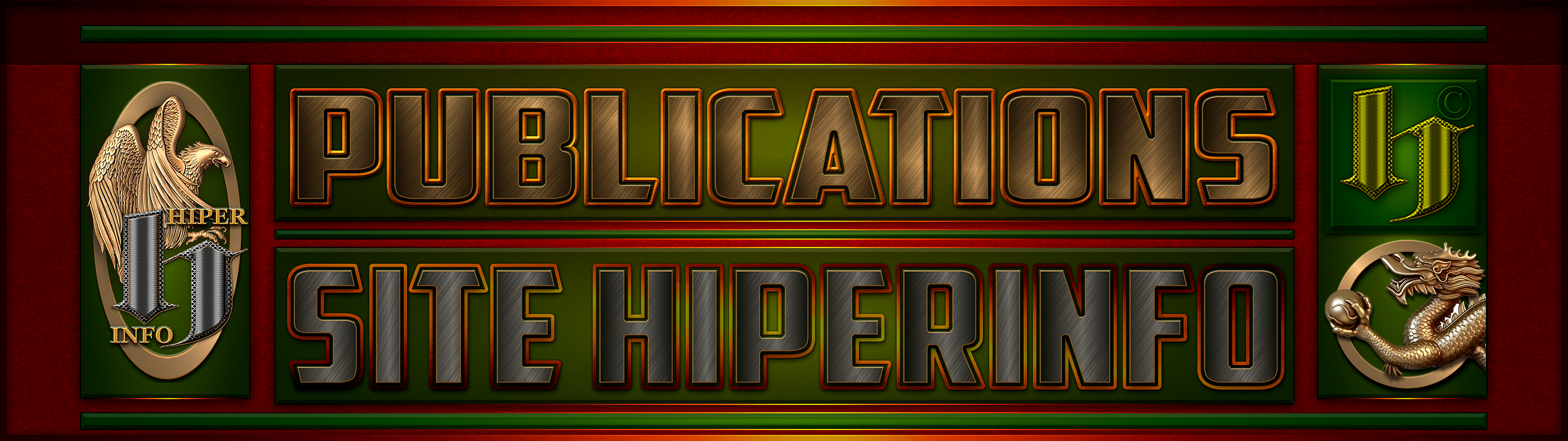- 311 Просмотров
- Обсудить
554. Что такое «сон Богородицы»? Любит православный русский человек почитать что-нибудь Божественное; не променяет он свои любимые Четии Минеи ни на какие книги мирские, как бы они ни были занимательны; умиляется он душой, читая жития и писания святых отцов подвижников. Отрадно это, утешительно, и слава Богу, что для православного простого русского человека нет книги дороже той, которая говорит ему о Боге, о святых Божиих, о спасении души, о будущей жизни... Но вот что жаль и что опасно: в простоте своей он не всегда умеет отличить книгу действительно душеполезную от душевредной — от той, в которой под именем Божественного предлагаются басни и вымыслы разные... А есть, к сожалению, есть и такие сочинения. «Спящым лее человеком, — глаголет Господь в притчах Своих,—прииде враг его и всея плевелы посреде пшеницы и отыде» (Мф. 13; 25). Пшеница — это слово Божие, святая истина, а плевелы — это разные заблуждения, разные ереси и расколы. Сеет, прилежно сеет и ныне враг свои плевелы — заблуждения и прямо через людей недобрых, и через разные недобрые книжки и тетрадки. Что такое, например, так называемый "Сон Богородицы"? Это — сказка какого-то невежественного сочинителя, это — вымысел, оскорбительный для Матери Божией, не заслуживающий внимания человека разумного и душевредный для простеца. А между тем многие из простых-то людей и считают эту сказку за истинную правду, и верят ей больше, чем слову Божию — Святому Евангелию! Этот "Сон" усердно переписывают (потому что печатать его запрещено), бережно хранят в своих домах и носят с собой повсюду, как святыню какую. Спросите иного грамотея, знает ли он, как и где Господь наш Иисус Христос родился и жил, как и чему учил, какие чудеса творил, как пострадал и умер ради нашего спасения? На эти вопросы он, пожалуй, не ответит; а вот "Сон Богородицы" он читал и, может быть, знает наизусть. Спросите его, есть ли у него, читал ли, даже видел ли он Святое Евангелие? Окажется, что эта книга ему, пожалуй, вовсе незнакома; а вот "Сон Богородицы" у него есть, он всегда носит эту тетрадку с собой и бережет ее у сердца своего... Да что говорить о грамотеях? Есть много и вовсе безграмотных, которые не расстаются никогда с этой тетрадкой. Что же это за "Сон" такой? Кто сочинил его? На это не только простец, но и никакой мудрец не ответит... Но кто знает историю жизни Пресвятой Матери Божией, тот сразу поймет, что такого сна и быть не могло, что это вымысел один и больше ничего. Впрочем, и простому человеку нетрудно убедиться, что этот сон только выдумка какого-то невежды. Стоит только прочитать из него хотя бы первые строки. Вот его заглавие: "Молитва. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь". Далее читается так: "Опочивала Пресвятая Богородица во святом граде Вифлееме, в месяце марте...". Невольно спрашиваешь, да где же тут молитва? Видишь, начинается история, а озаглавлено: "Молитва". Видно, сочинитель не умел отличить истории от молитвы, а взялся сочинять!... Но что дальше? "Опочивала в месяце марте, в тридцатом числе...", надо бы уж сказать еще в каком году. Без этого и указание на число не имеет смысла. Дальше: "опочивала во святой святыне" — что это за святыня, — не сказано, "во святой горе в вертепе, над святою рекою, над Иорданию...". Спроси каждого, кто бывал в святом граде Вифлееме, — теперь многие странствуют в Святую Землю на поклонение святым местам, — спроси их, или еще ближе, — спроси каждого мальчика, который учится Священной Истории в школе, далеко ли Иордан от града Вифлеема? Каждый тебе скажет, что не ближе, как верст за сорок или пятьдесят... Как же это Матерь Божия могла почивать в Вифлееме, над рекой Иорданом? Конечно, этого быть не могло, а понадобился Иордан сочинителю сна для красного словца; он и вставил его, а о том-то и не подумал, что святая река от Вифлеема очень далеко, а может быть он даже и не знал этого. Дальше, конечно, для того же красного словца, сочинитель выражается о Матери Божией так: "Ложилась Владычица спать и почивать, Владычице мало спалось и во сне много виделось...". Не правда ли, только в сказках можно читать такие выражения? А в "Сне Богородицы" даже Сама Матерь Божия говорит о Себе так: "ложилась Я, Владычица, спать и почивать; Мне, Владычице, мало спалось, а во сне много виделось..." И кто же поверит, будто Она, всегда смиренно называвшая Себя рабой Господней, стала называть Себя Владычицей? Нет, это ложь, это клевета на Царицу Небесную; Она никогда не назвала бы Себя Владычицей, это было бы противно Ее боголюбезному смирению, хотя от нас Она с матерней любовью приемлет наименование не только Владычицы мира, но и Царицы Небесной, честнейшей Херувимов и славнейшей без сравнения Серафимов. А можно ли поверить, не грешно ли думать, будто Господь наш Иисус Христос, обращаясь к Своей Божественной Матери, мог говорить так: "гой еси Ты, Мати Моя возлюбленная...". Как тяжело благоговейному христианину читать это сказочное: "гой еси", когда оно столь кощунственно влагается в уста Самого Христа Спасителя!.. В чем же состоял самый сон Богоматери? Сон этот есть не что иное, как краткое и притом безграмотное описание страданий Спасителя, которые будто бы когда-то видела во сне Пресвятая Богородица, и потом рассказала их Спасителю. В этом описании много безсмысленных выражений, например: "луна кровию предася", "чернижная смерть", "умножение всякаго пола" и подобных. Но если этот "Сон" не стоит внимания, то почему же простые люди считают эту тетрадку едва ли не выше самого Евангелия? А потому, что сочинитель в конце этого "Сна'гприбавил разные обещания тому, кто сон этот перепишет и будет постоянно иметь при себе. Такой человек, будто бы за одно это, будет помилован от Бога, "и не прикоснется к нему лихой человек, и будет в его дому Дух Святый почивать, и того человека будто бы укусить змея не может, и никакой судия противу того человека на месте усидеть не может, и тот человек на суде будет всегда прав, и долговечен будет на земли во веки веков (значит, никогда не умрет, вот до какой нелепости договорился сочинитель "Сна"!), и если при его смерти не прилучится отца духовного (заметьте, что сам сочинитель сейчас только сказал, что такой человек будет долговечен во веки веков, —сам же, значит, не верит в силу "Сна"), то прочитать над ним "сию молитву" (то есть "Сон") трижды и положить с ним в гроб, и ту душу "ад не примет" и так далее... Вот сколько обещаний надавал невежда-писатель, чтобы только заставить простого человека верить его вымыслу. И есть простецы, которые действительно верят в какую-то чудесную силу этой сказки, точно в силу Божию; а того и не знают, что ведь это суеверие, грех против первой заповеди Божией. Вот Святое Евангелие есть действительно благодатное слово Божие, и воистину подобало бы каждому христианину всегда иметь эту святую книгу при себе; но и эта святая книга не спасет тебя от беды, если ты не будешь слушаться того, что в ней написано. А "Сон Богородицы" — не истина, а ложь, вымысел, неправда: как же она, эта ложь, может спасти тебя? Чьей силой?.. И посуди ты сам: как это никакой судья перед тобой усидеть не может, и ты будешь прав, если ты на самом деле не прав?.. Ведь если так рассуждать, то каждый злодей, каждый разбойник будет прав, стоит только ему запастись "Сном Богородицы"! Где же тогда будет правда Божия, да не только Божия, но и человеческая? А как судить об умирающем без отца духовного, с одним "Сном Богородицы" на голове? Ужели эта тетрадка заменит ему и святую исповедь, и Божественное Причащение?.. Какое безрассудство! Выходит, положи с собой в гроб "Сон Богородицы", и не нужно тебе отца духовного, не нужно ничего; сказано: ад тебя не примет, а встретят тебя Ангелы и поставят одесную престола Божия, — чего же еще надо?.. Да ведь это хуже всякой безпоповской ереси!.. Прискорбно, очень прискорбно, братие мои, что есть среди нас, православных христиан, такие неразумные простецы, которые верят подобным басням. Нам все хотелось бы как-нибудь полегче спастись; вот и обрадовались такому средству: носи с собой "Сон Богородицы" и будешь спасен... Нет, други мои, не то глаголет Христос: «аще ли хощеши внити в живот, соблюди заповеди» (Мф. 19; 17). Без труда не спасешься. Трудись, делай больше добра, право веруй, в грехах кайся, смиряйся и молись; вот и будешь действительно спасен. А верить "Сну Богородицы" — суеверие одно. На том свете ответишь Богу и за то, что верил этому вымыслу, что переписывал его и за святыню почитал... Не покроет такого человека и Пресвятая Богородица, потому что больше верил разным басням, чем Святому Евангелию Ее Сына и Бога. Братие! У кого есть "Сон Богородицы"? Бросьте эту тетрадку в огонь, чтобы не попала она в руки вашим детям. Пусть читают они Святое Евангелие, а не такие вымыслы... Оглавление 555. Слово о любви называющему себя старообрядцем о том, одно ли и тоже – догмат и обряд «Добро же, еже ревновати всегда в добром», — говорит апостол Христов Павел (Гал. 4; 18), потому что бывает «ревность Божия... но не по разуму» (Рим. 10; 2). По разуму ли ревнуешь ты, именующий себя старообрядцем, когда обвиняешь Святую Православную Греко-Российскую Церковь в том, будто она переменила веру, изменив любимые тобою обряды на другие, более древние и с духом ее более согласные? Одно ли и то же — вера и обычай церковный? Одно ли и то же — догмат и обряд? Что есть догмат? Слово это не русское, а греческое, оно значит "повеление", "указ". Догматом называется такое учение веры, такая истина спасительного Христова учения, которая указана в Священном Писании, то есть в книгах Ветхого и Нового Завета, утверждена на Вселенских Соборах и необходима для нашего спасения. Посему кто не приемлет какого-либо догмата веры, тот не сын Православной Церкви и спастись не может. В "Большом Катехизисе" сказано: "От всех семи Вселенских Соборов переданные догматы в ней (то есть в Церкви) соблюдаемы суть" (глава 25 "О Церкви"). Вот что значит "догмат". А что такое обряд? Слово это русское, "обрядить" — значит облечь кого в одежду, по которой можно бы узнать, какое звание носит человек. Поэтому обряд есть знак или видимое действие, которым обозначается догмат. Объясню сие на примерах. Так, учение о том, что Бог троичен в лицах, — Отец и Сын и Святый Дух — Троица Единосущная и Нераздельная, — это догмат, спасительное учение веры. Учение о том, что Христос, Спаситель наш, есть и Бог и человек, что в Нем нераздельно и неслиянно соединены два естества — Божеское и человеческое — это тоже догмат, спасительная истина веры. Кто не приемлет этих догматов, тот не христианин и спастись не может. А установление, какими перстами изображать в крестном знамении. Святую Троицу, тремя ли первыми, как делаем мы, или первым, четвертым и пятым, как делаете вы, называющие себя старообрядцами; или какими двумя перстами обозначать догмат о двух естествах во Христе, двумя ли последними, как делаем мы, или указательным и великосредним, как вы, — все это не догмат, а только, так сказать, одежда догматов, видимый знак, обряд. Ни в Священном Писании, ни на Вселенских Соборах не указано, какие персты и как слагать для крестного знамения. Конечно, лучше слагать так, как учит слагать Церковь Православная (троеперстно), ибо чада Церкви должны слушаться своей Матери, а не судить ее; но если твоя совесть немоществует, Церковь благословляет тебе, как немощного, слагать персты и двуперстно, лишь бы ты содержал догматы веры нерушимо и не осуждал нас, послушных чад Матери Церкви. Еще примеры. Учение веры о почитании Креста Христова есть догмат (Гал. 6; 14). А установление, сколько концов изображать в кресте Господнем, четыре конца, или шесть, или восемь — это обычай, обряд, а не догмат, потому что о числах концов ничего не сказано ни в Священном Писании, ни в правилах Вселенских Соборов. Святая Матерь наша Православная Греко-Российская Церковь, одинаково чтит изображение креста Христова, будет ли оно четыреконечное, или шести, или же осмиконечное. Не хули и ты, любитель старины, Крест Господень четвероконечный, ибо не докажешь из Священного Писания, что это — не Христов Крест, напротив, внимательно читая Святое Евангелие, сам увидишь, что именно четвероконечный крест и называется Его Крестом. Так о Симоне Киринейском евангелист Матфей говорит: «и сему задеша понести крест Его, — то есть Христов» (Мф. 26; 32), а в то время, когда Господа вели на Голгофу, еще не было на Кресте титла, которое Пилат велел поставить над главою уже распятого Господа. Учение веры о Таинствах Крещения и Миропомазания есть догмат. А установление, как по Крещении совершать хождение вокруг купели, против ли солнца, или по солнцу — это не догмат, а обряд. И опять, ни в Священном Писании, ни в правилах Вселенских Соборов ничего об этом не сказано. Учение о том, что при совершении Божественной литургии надлежит поминать живых и умерших, есть догмат. А из скольких просфор вынимать частицы с молитвой о живых и сколько должно быть на проскомидии всех просфор: пять или семь, — это не догмат, а только обряд. Святая Православная Греко-Российская Церковь употребляет обычно пять просфор — в воспоминание чуда насыщения Христом пятью хлебами пяти тысяч народа в пустыне; но она не воспрещает приносить и семь, и более просфор. Ибо где в Священном Писании или в правилах Вселенских Соборов найдешь ты запрещение на это? И где в Священном Писании или в Соборных правилах предписано приносить семь просфор, а не пять или не более семи? То же надлежит сказать об имени Господа ИИСУСА, или ИСУСА: ни в Священном Писании, ни в правилах Вселенских Соборов — нигде не сказано, как писать или произносить его — с двумя буквами "Ии", или с одной "И". Если бы ты умел читать по-гречески, то сам прочитал бы во всех древнейших греческих рукописях "ИИСУС" с двумя буквами гласными, а не с одной, и убедился бы, что Православная Греко-Российская Церковь не погрешает, а напротив, совершенно согласно с древней Греческой Церковью пишет и читает спасительное сие имя "ИИСУС". Ведь мы от Греков прияли веру Православную, значит, надобно и в этом больше верить древним греческим рукописям, из которых иные писаны за полторы тысячи лет до нашего времени, то есть во времена великих вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. А твоим старым книгам, на которые ты ссылаешься, много-много триста лет, а то и сего меньше. Это ли старина? Итак, не хули Церковь нашу Православную за имя "ИИСУС". Она не запрещает тебе писать и произносить его кратко "ИСУС", хотя сама всегда пишет и произносит полно "ИИСУС". Дело не в буквах, а в вере, а мы все веруем с тобой в одного и того же Спасителя. Поверь, брате, что и нам, как и тебе, дорого спасение вечное. Сам видишь, что в догматах веры мы единомыслены, только в обрядах не сходимся. Но догмат и обряд не одно и то же. Ваши учители толкуют, что "крестящиеся тремя перстами разрушают догматы". Неправда это. Мы приемлем сердцем и устами исповедуем все богопреданные, в Священном Писании и в правилах Вселенских Соборов изложенные догматы. А обряды, о которых выше сказано, не догматы. Догматы неизменны — это учение божественное. Обряды Церковь может изменять по своему усмотрению — это предание человеческое. Так, например, известно, что до Златоуста Святое и Пречистое Тело Христово преподавалось отдельно от Крови, прямо в руки мирянам, а Златоуст ввел в обычай преподавать со лжицы. Итак, скажи мне: догмат это или обряд? Если догмат, то неужели до Златоуста вся Церковь и даже сами апостолы погрешали против сего догмата? А если обряд, то согласись, что и пять просфор, и хождение против солнца, и троеперстие — все это не догматы, а только обряды. И тот, кто почитает их за догматы, сам тяжко согрешает, ибо вводит новые догматы, о которых Апостольская Церковь не ведала. Ревнуешь ты не по разуму, и вместо послушного сына Церкви становишься судьей Церкви, приравниваешь самого себя к Вселенским Соборам, ибо обвиняешь Церковь в ереси. А если ты не хочешь взять на себя столь тяжкого греха гордости, то не подобен ли ты тому младенцу, который не узнает своей матери только потому, что она переменила некое украшение на одежде своей? Обряды и чинопоследования богослужебные для Церкви то же, что одежда для человека, неужели же Церковь не имеет права изменять сию одежду на лучшую, более древнюю, которая тебе кажется новой только потому, что ты не знаешь о ней? Ужели ты, сын Церкви, хочешь быть судьей ее? Подумай об этом, брат мой! Христос Спаситель наш пролил за нас с тобой Свою бесценную Кровь на Кресте, — а ты будешь спорить о числе концов этого креста, о числе просфор, о перстах, о хождении посолонь... Разумна ли эта ревность твоя? Не оскорбим ли мы с тобой этими словопрениями Господа и Главу Церкви? Ей, брате! Возлюбим друг друга, да едиными усты и единым сердцем во Святой Церкви исповемы Троицу Единосущную и Нераздельную. Ей же буди слава во веки веков. Аминь. Оглавление 556. Небесные заступники края Литовского Православная Литва — родная, хотя и младшая сестра Православной Русской Земли, и напрасно усердные слуги папы Римского стараются всех уверить, будто в Литовской земле от времен древних была проповедана вера латинская: святые мученики Виленские, Антоний, Иоанн и Евстафий, доселе нетленно почивающие в Вильно, в Свято-Духовом монастыре, явно обличают эту ложь, свидетельствуя, что на Литве святая вера православная древнее всяких латинских заблуждений. Они пострадали за нее еще тогда, когда в Литовской земле и помину не было о латинских проповедниках, а Православие уже распространялось, и сам Литовский князь был крещен в веру православную, только изменил он этой вере святой и снова стал идолопоклонником. До Святого Крещения Антония звали Межило, а Иоанна — Кумец; они были родные братья и служили в числе любимых придворных князя Ольгерда. Языческие жрецы заметили, что Кумец и Межило не являются в храм идола Перкуна для принесения жертв огню и соблюдают пост в известные дни. Могли ли они стерпеть такую обиду для старой веры? И от кого же? От таких знатных придворных людей, какими были Кумец и Межило!.. И вот, по их жалобе, Ольгерд приказал бросить братьев в темницу. Целый год томились святые мученики в сырой и мрачной тюрьме; ни ласки, ни угрозы жрецов на них не действовали. Но через год старший брат поколебался: он послал сказать князю, что подчиняется его воле, и Ольгерд велел освободить обоих братьев из темницы. Антоний по-прежнему открыто признавал себя христианином и брата уговаривал не притворяться. Это до крайности раздражило жрецов; они предложили князю испытать обоих братьев. В постный день им приказали быть при столе князя. Иоанн не посмел отказаться от мясной пищи, а Антоний смело объявил, что он, как христианин, не нарушит святого поста. И его опять бросили в темницу. Как ни мучили его здесь, как ни томили голодом и жаждой, он оставался тверд и непоколебим, так что многие язычники, видя его чудное терпение, уверовали во Христа. А брат его Иоанн, после своего отречения от Христа, никак не мог успокоить свою встревоженную совесть... Антоний не хотел его и видеть; христиане чуждались его, как отступника; даже язычники презирали его за малодушие. Измученный душой, со слезами раскаяния, он умоляет священника Нестора, который некогда обратил их ко Христу, помирить его с братом Антонием. Антоний отвечал, что он не хочет иметь ничего общего с отступником веры. Тогда Иоанн решился снять с души своей тяжкий грех. Сначала наедине, а потом открыто он объявил князю, что он опять христианин, и что более не изменит никогда святой вере. Ольгерд вышел из себя, бил Иоанна своими руками, велел бить его палками и, закованного в тяжкие железа, приказал бросить в темницу. Как рад был теперь святой Антоний! Как светло и радостно стало на душе Иоанна! Братья вместе хвалили Господа, вместе причастились Святых Христовых Таин. Народ толпами собирался посмотреть на бесстрашных исповедников новой веры. Многие, пораженные их мужеством, принимали Святое Крещение. Тогда жрецы потребовали решительного суда над ними, и Ольгерд отдал святых мучеников на их суд. Можно себе представить, с каким зверством терзали святых страдальцев эти жестокие идолопоклонники! Наконец, святому Антонию был объявлен смертный приговор. Последнюю ночь Антоний провел в молитве и в беседе с возлюбленным братом; укрепляя его на подвиг смертный, он сказал, что и его ждет скоро венец мученический. Настало утро 14 апреля 1347 года; на рассвете явился в темницу пресвитер Нестор и причастил обоих братьев Святых Христовых Таин. Служитель Божий благословил Антония на смерть за Христа. Скоро явились и мучители. Они повлекли святого Антония к своим идолам и там еще раз надругались над ним. Оттуда привели его в рощу, за город, где обычно казнили злодеев, и здесь повесили его на дубе. Десять дней потом мучили они Иоанна в надежде, что он опять отречется от Христа, но страдалец остался верен своему Господу до конца. 24 апреля и он был повешен на том же дубе. Мученическая смерть святых Антония и Иоанна скоро принесла прекрасный плод: родственник мучеников, по имени Круглец, юноша умный и прекрасный собой, пораженный твердостью святых страдальцев, уверовал во Христа и принял Святое Крещение с именем Евстафия. Евстафий был одним из приближенных Ольгерда, который скоро заметил, что он отращивает волосы (а литовцы-язычники обыкновенно стригли волосы и брили бороду). "Уж и ты не христианин ли?" — спросил Ольгерд юношу Евстафия. "Да, я христианин", — отвечал тот небоязненно. Была пятница Рождественского поста и Ольгерд приказал Евстафию есть мясо. Евстафий отвечал, что он не может нарушить уставов святой веры своей. Гордый Ольгерд вышел из себя. В жестокий мороз он приказал лить в рот Евстафию холодную воду. От этой пытки останавливалось дыхание у святого исповедника и все тело его посинело. Но Евстафий и после этого не стал есть мяса. Тогда Ольгерд велел бить его железными прутьями, отрезать нос и уши и содрать кожу с его головы. Мученик терпел, не подавая и вида, что страдает. Напротив, он еще утешал бывших тут христиан надеждами на блаженную вечность. Наконец, и этого святого страстотерпца повесили на том же самом дубе, который уже был освящен смертью его святых сродников. Это было 13 декабря того же 1347 года. Так окончили свой славный подвиг святые литовские мученики. Их кровь, за Христа пролитая, послужила как бы семенем, из которого потом возросла и процвела на Литве святая вера православная. Сам жестокий мучитель их Ольгерд не только снова обратился к вере православной, но в конце жизни своей даже принял монашество. Все двенадцать сыновей его были православными христианами. Правда, вскоре после этого пришли в Литву латинские проповедники и силой заставили многих литовцев принять веру латинскую; однако, Господь не попустил погибнуть в стране Литовской святой вере православной. Прошли многие века, века тяжелые для многострадального Литовского края,.и православная вера снова восторжествовала в этой стране. Сколько столетий сплетали свои сети хитрые латины, чтобы закрепить власть папы над бедной Литвой, сколько миллионов душ насилием отторгнули они от Церкви Православной, но, благодарение Господу, отторгнутые насилием возвращены любовью, и так называемая уния с Римом сама собой уничтожилась. Нельзя не видеть в этом великом и радостном событии особенного действия благодатной силы Божией, которая, по молитвам мучеников, сохранила святое семя веры православной целым и невредимым в продолжение целых пяти веков и возрастила из него обильный плод. Помолимся, братие мои, чтобы Господь и впредь укрепил и сохранил святую веру православную в стране Литовской. А поскольку наша молитва немощна, то призовем на помощь сильную молитву святых мучеников, — да помолятся они за родину свою земную у престола Царя Небесного, Емуже буди от нас слава во веки веков. Аминь. Оглавление 557. Кто отвалит камень греховный? Не знаю, сумею ли я, как должно, истолковать вам, братие, что такое грех? Ничего нет легче, как сделать грех; но и ничего нет труднее, как умом понять его. Возьму пример: пусть будет целое море сладкой воды; но если б в это море упала одна только капля такой горькой воды, которая сразу все море сделала бы горьким, то какую бы горечь имела эта вода? И однако же грех еще больше имеет в себе горечи, потому что он в одно мгновение огорчает неисчерпаемую пучину Божия милосердия. Много чудес совершил в земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос; Его почитали великим пророком, чудотворцем, святым, но все же только человеком, а не Богом, потому что такие же чудеса творили и пророки, а позже и апостолы; но когда Он сказал расслабленному: «чадо, отпущаются ти греси твои2 (Мф. 9; 2), тогда Он всем показал Свою Божественную силу, так что фарисеи и книжники, почитавшие Его за простого человека, заговорили: «кто сей есть, иже и грехи отпущает» (Лк. 7; 49). И если бы можно было положить на весы с одной стороны грех, а с другой всю святость всех Ангелов и Архангелов и всех святых Божиих, то вся святость неба и земли не поднимет тяжести греха, потому что ни Ангелы, ни святые, со всей их добродетелью, не могут сами по себе, своей силой простить человеку грех. Его может простить только один Господь Иисус Христос, сей «Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1; 29). Итак, грех есть яд бесконечный, огорчающий бесконечное Божие милосердие; грех есть зло бесконечное, лишающее нас бесконечной благодати Божией; грех есть тяжесть бесконечная, низвергающая грешника в муку бесконечную. Когда мироносицы шли с ароматами ко гробу Христову, то с тревогой в душе говорили одна другой: «кто отвалит нам камень от дверий гроба?» (Мк. 16; 3). Вот так же могла бы говорить и грешная душа: "Горе мне! Грехи мои тяжелым камнем лежат на совести моей; грехи моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне; куда мне идти? Кто может меня простить? Кто поднимет тяжесть мою? Кто отвалит мне камень? Прожил я много лет, состарился во грехах, расточил все, что имел, греховная привычка точно камень тяжелый лежит на сердце... Кто отвалит мне этот камень? Наделал я столько обид, столько неправды, столько лихоимств; грех сребролюбия камнем тяжелым тяготит совесть мою... Кто отвалит этот камень? Нет греха, которого бы я не делал, а покаяния и не думал принести; это упорство во зле ожесточило самую душу мою и как бы превратило в камень... Кто отвалит этот камень? О горе мне! Тяжким камнем лежат на мне грехи мои, изнемог я под тяжестью этой: кто же отвалит от меня этот камень?.." Но не скорби безнадежно, грешная душа, слышишь, что о мироносицах написано в Евангелии: «И воззревши видеша, яко отвален бе камень». Кто же его отвалил? Ведь он был так велик: «бе бо велий зело...» (Мк. 16; 4). Бог послал Ангела, который и отвалил камень от гроба. Когда у человека есть доброе намерение, то какой бы камень ни лежал на пути, какое бы препятствие ни было, Бог устранит всякое препятствие. Итак, дерзай, грешная душа, иди туда, куда тебя посылает Бог, иди к духовному твоему отцу, не теряй времени. Бог видит твое произволение и поднимет тяжесть твою. Если у тебя не достанет твоей собственной силы, то найдется сила Божией благодати, в помощь тебе. Иди, я уверяю тебя именем распятого Иисуса, что камень грехов твоих, лежащий на сердце, на совести, на душе твоей, отпадет, отвалится, с места сдвинется... Кто же его отвалит? Агнец Божий, вземляй грехи мира, — Сын Божий. Кто на крест вознес грехи всего мира, Тот поднимет и твой грех. Скажи духовнику только одно слово: "Согрешил я", и он скажет тебе только одно слово: "Чадо, отпущаются тебе грехи твои", и тотчас ты почувствуешь облегчение и будешь прощен. И как не дивиться несказанному Божию милосердию? Какую благодатную власть даровал Бог священникам Церкви Своей в лице святых апостолов! Он дал им полную власть разрешать и прощать всякий грех, когда сказал: «Приимите Дух Свят (Ин. 20; 22). Елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех» (Мф. 18; 18). Мог Он, конечно, потребовать от человека, чтобы тот всю свою жизнь оплакивал грехи свои в пустыне непроходимой, или бы омыл их кровью своей; но Он не потребовал от нас ничего подобного, а даровал нам самый легкий путь покаяния — исповедь перед отцом духовным. Во время земной жизни Спасителя однажды встретили Его десять прокаженных и громко возопили к Нему: «Иисусе Наставнице, помилуй ны!» (Лк. 17; 13). Он отвечал им: «шедше покажитеся священником» (Лк. 7; 14). И они пошли, показались и очистились. Есть ли еще такая злая, смрадная, неизлечимая болезнь, как проказа? И есть ли еще такой легкий способ исцеления, какой показал прокаженным Христос? То же самое средство показал Он и нам, грешным, к очищению проказы греховной: «шедше покажитеся священником» и будете чисты. Грешники, страждущие болезнью самой смертной, какую бы душа ни имела: желаете ли себе прощения? Желаете ли исцеления? Пойдите вы не в пустыню непроходимую, не на мучения за свои грехи, не к Ангелу на исповедь: пойдите к священникам, к таким же людям, как и вы; только им покажите болезнь вашу, объявите грехи ваши; они имеют всю власть прощения, всю силу исцеления, все, что они простят на земле, то будет прощено и на небе. «Шедше покажитеся священником». И идем мы, братие, показываем им болезнь свою, объявляем грех свой, и — о чудо — лишь только отец духовный скажет здесь, на земле: "Чадо, отпущаются тебе грехи твои", то же самое говорит и на небе Сам Спаситель! "Прощаю тя", — говорит здесь, на земле, священник. "Прощаю тя", — ответствует и на небе Сам Христос. Здесь произносит разрешение священник, а там подтверждает его Сам Дух Святой. Какое поистине дивное чудо! От одного слова зло исчезло, бесконечная тяжесть спала, неисцельный яд исцелился, грех разрешился! Мы, расслабленные, восстали, мы, прокаженные, очистились, мы, мертвые, воскресли, из врагов Божиих стали чадами Божиими, из грешников, вечной муки достойных, стали вдруг праведниками, достойными Небесного Царствия. Боже мой! Избавитель мой! Как безмерно Твое ко мне, грешному, милосердие! Я согрешаю, грехом своим Тебя оскорбляю, и за это вечной муки достоин, а Ты предлагаешь мне такое легкое исцеление от греха?.. Да когда я провинюсь перед земным владыкой, таким же, как я человеком, и то не остаюсь без наказания: а перед Тобой, Богом моим, моим Создателем и Искупителем, согрешил, — и Ты требуешь от меня только одного слова: "Согрешил я", и только одним словом: "Отпущаются тебе грехи твои" — прощаешь меня!.. Как назову такую любовь Твою ко мне?.. И я ли не воспользуюсь таким благодеянием? О, тогда я был бы самым неблагодарным человеком на земле, самым безответным преступником, я был бы достоин сугубого мучения адского: одного —за то, что согрешил, а другого — за то, что не захотел получить прощение в грехе столь легким способом. И чем больше я вижу милость Божию к себе, тем больше должен я бояться Божия гнева. Захотел Бог оказать особое благодеяние неблагодарным жителям Иерусалима и каждый год творил на Овчей купели дивное чудо: сходил Ангел с неба и возмущал воду той купели, и кто из больных первым входил в эту воду, тот от всякой болезни исцелялся. Представьте, что настал этот желанный час и больной находится у самой воды, знает, что стоит ему броситься в воду, как будет здоров, — знает это, может броситься, — и не хочет; спрашиваю вас, чего заслуживает этот человек? Того, чтобы вовсе высохла для него эта спасительная вода, чтобы он не мог найти ее и тогда, когда бы пожелал, и чтобы умер он в болезни своей... Братие! Тогда чудо это бывало только в Иерусалиме, только один раз в год; а у нас оно может быть в каждой церкви, каждый день и каждый час, когда бы мы ни захотели... Болен ты, грешен ты, одной ногой во гробе, а другой в муке вечной, — что же ты не спешишь к покаянию? Болезнь твоя такая тяжкая, исцелиться тебе так легко — ужели ты этого не хочешь? Чего же ты после этого стоишь? Конечно, муки вечной. И кто в том будет виноват? Никто, кроме тебя же. Кто пожалеет тебя? Никто. Но заклинаю тебя именем Божиим, брат-христианин! Когда благость Божия ведет тебя к покаянию, не противься, иди!... Бог распростер уже Свои объятия, чтобы принять тебя со сладчайшими словами: "Чадо! Отпущаются тебе грехи твои"... Аминь. (Из "Поучительных Слов " святителя Илии Минятия) Оглавление 558. Как постились наши деды и как постимся мы Недолго той земле стоять, где начнут уставы добрые ломать", — так говорили наши мудрые деды и прадеды. А что сказали бы они, если бы теперь встали из гробов своих и посмотрели, как мы нарушаем добрые уставы нашей матери, Святой Церкви Православной? Наверное, с глубокой скорбью сказали бы они: "Тому ли мы учили вас, то ли вам заповедали? Куда у вас девалась прежняя строгость жизни? Где то благоговение к заповедям церковным, к преданиям отцов святых, которые мы свято соблюдали во дни оные древние? Вы ли наши потомки? Того ли мы ожидали от вас?.." И со стыдом пришлось бы нам склонить повинную голову перед этим справедливым упреком наших предков благочестивых; так далеко отстали мы от них в сыновнем послушании Церкви Божией и ее уставам святым; и безответны мы были бы (да и будем, конечно, при Втором пришествии Христовом) в том, что не храним святых заветов старины, заветов, не предками нашими выдуманных, а только принятых ими от времен стародавних, от времен святоотеческих и Апостольских, ими сохраненных и нам завещанных. Давно ли было время, например, когда в каждой православной русской семье тяжким грехом считалось есть в пост пищу скоромную? Помилуй Бог, бывало, в Великий пост разрешить себе — не говорю уж мясо, а и рыбу — такого своеволия наши деды даже на одре болезни себе не позволяли. "Как это можно? — говорил какой-нибудь старичок или старушка. — Разве я басурманин какой? Никто от поста не умирал еще: потерплю, ради Господа". И терпели, а постов не нарушали. И за это, конечно, от Господа венец подвижников получали. А ныне нередко всей семьей едят не только рыбу, но и мясо — в святые дни поста. Славу Богу, по селам и деревням простые русские люди еще соблюдают святые посты, хотя уже и не так строго, как бывало в старину, а в городах — горько и слышать, что творится... Не говорим уже о тех, которые учились жить не по русскому, православному закону, а по иностранному, заморскому, — посты перестают соблюдать даже купцы и ремесленники; это — новость, которую лет полсотни назад и услышать было нельзя. Посты тогда любили и почитали, и особенно Великий пост — с какой радостью встречали! Бывало, настанет первая неделя этого поста (первый день его), чистый понедельник, и с каким усердием блюдут православные святыню поста! Помилуй Бог, бывало, до Часов воды напиться или кусок хлеба съесть, а чаю не пили вовсе во дни говения и в Страстную седмицу. Были и такие рабы Божии, которые по целой неделе ничего не вкушали и, славу Богу, были живы и здоровы, и ни на какие болезни не жаловались. Крепко верили они в целительную силу святого поста и по вере их Бог подавал им доброе здоровье; пост не только не истощал их телесных сил, но и придавал больше бодрости духу и через это укреплял самое тело. Не по книгам, не по Четии Минеи только знали наши отцы и деды, как полезен пост и сколько нужно человеку пищи, чтобы и не обременять себя ею, и быть бодрым и здоровым: они знали это по собственному опыту. И с каким, бывало, сердечным умилением идут эти постники, особенно старички и старушки, в храм Божий, на долгую службу Великопостную, и с каким усердием кладут там поклоны великие — не то, что мы, грешные: только и думаем, как бы служба поскорее кончилась, да из церкви поскорее бы вон... В первые дни Страстной седмицы на Часах прочитывается Святое Евангелие — всех четырех евангелистов, без пропусков; служба долгая, по четыре, по пять часов идет, а наши постники-молитвенники стоят себе в храме Божием, лицом светлы и радостны, внимают слову Божию; так и видно, что у них бодрый дух подкрепляет и плоть немощную... То ли теперь? Много ли таких молитвенников в наших семьях? Где они?.. Оттого и не знаем мы тех светлых радостей, коими услаждали свою душу наши деды-прадеды в светлорадостные дни Пасхи Христовой, Христова Рождества и других великих годовых праздников. Оттого у нас — что будни, что праздник Христов, — все на душе пусто, на сердце сухо, пасмурно, нерадостно... Видно, что ни говори грешник в свое оправдание, а верно слово Божие: «Несть радоватися нечестивым» (Ис. 48; 22), — нет праздника для грешника! Не заглушить ему никакими самооправданиями упреков своей совести! Да и что за оправдания? Ссылаются, обыкновенно, на то, будто постная пища вредна для здоровья, но правда ли это? Люди ученые делали опыты: кормили людей одной постной пищей, без мяса, без молока, и оказывалось, что они были так же здоровы, как и те, кто каждый день мясо ел. Видно, опыт трех святых отроков, которые жили при пророке Данииле, и теперь может оправдаться: они тогда отказались от роскошной трапезы царской, питались только овощами и водой, и однако же оказались красивее и полнее телом, чем их товарищи, которые питались яствами с царского стола (Дан. 1; 12-15). Да оно так и должно быть: Господь при сотворении человека дал ему в пищу только «всякую траву семенную... и всякое древо, еже иматъ в себе гьчод семене семеннаго» (Быт. 1; 29). В раю человек не знал мясной пищи. Да и после изгнания из рая, до самого потопа, люди питались только от земли, которую возделывали в поте лица. Уже после потопа им было позволено употреблять в пищу и животных. Значит, мясная пища вовсе не есть необходимость природы нашей, а только прибавка к пище растительной. И смотрите; когда люди дольше жили, — тогда ли, когда питались только зелием травным, или когда стали есть мясо животных? До потопа они жили век Мафусалов, считавшийся целыми столетиями, а после потопа, когда разрешили мясо, их век сразу сократился наполовину, а потом стал и еще все меньше и меньше... Но что говорить о тех древних временах? Не признаем ли сами мы, что наши предки, соблюдавшие посты, были крепче и бодрее нас? Не жалуемся ли на наше поколение, что оно слабеет и хилеет и чаще болеет, чем болели тогда?.. Итак, не бойтесь поста: он скорее укрепит, чем расстроит ваше здоровье, скорее продлит, чем сократит вашу жизнь. Ты жалуешься на болезнь: хорошо, Церковь с больных поста не взыскивает; но так ли ты болен, что не можешь поститься? Как часто на болезни жалуются люди утолстевшие и разжиревшие!.. И кого хотят обмануть они: себя или Бога Всеведущего? Им-то и нужно бы поститься, если не для спасения души, то хотя бы для облегчения своего тела... Говорят: "Пост — человеческое установление, а не Божее!". Неправда это. Пост — Божие узаконение, и притом самое древнее узаконение. "Почтите седину поста, — говорит святитель Василий Великий, — он узаконен еще в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от древа же, еже разу мети доброе и лукавое, не снесте» (Быт. 2; 17). А это — «не снесте»— и есть узаконение поста и воздержания". Видите, и в раю было не все позволено вкушать человеку, были плоды, в пищу Богом благословленные, и был плод запрещенный. Не то же ли это, что пища постная и скоромная? И вы знаете, к чему привело вкушение плода запрещенного... Говорят еще: "Сказано в Евангелии: «не входящее во уста сквернит человека, но исходящее изо уст" (Мф. 15; 11). Правда и это; но не грешно ли применять это слово Господа для оправдания своей прихоти? Это слово сказано фарисеям, которые в самом деле считали осквернением вкушение некоторых мяс или даже просто ядение нечистыми руками, а мы вовсе не потому не едим мясо в пост, будто это может осквернить нас, а просто потому, что Церковь, наша благодатная мать и Христова невеста, так нам повелевает. Есть у тебя дети? Положим, ты приказал им, для их же пользы, чего-нибудь не касаться, а они бы тебя не послушали; как бы ты посмотрел на это? Ужели ты не обиделся бы на их дерзкое непослушание? Как же смеем мы ни во что ставить волю Святой Церкви, нашей матери, которая устрояет наше спасение?.. Ты говоришь, что «брашно... нас не поставляет пред Богом» (1 Кор. 8; 8), что гораздо важнее быть честным и добрым человеком, чем есть скоромную или постную пищу. Но, друг мой, разве нельзя уже быть тебе честным и добрым, если будешь соблюдать посты? Соблюдай и то, и другое: «и сия (же) подобаше творити, и онех не оставляти» (Мф. 23; 23). А я тебе скажу, что вот быть честным и добрым христианином и в то же время не слушаться Церкви уж никак нельзя; ведь Сам Христос сказал: «аще же и Церковь преслушает брат твой, буди тебе как язычник и мытарь» (Мф. 18; 17). И уж лучше и безопаснее для спасения смиренно сознаться с нашими предками, что мы "все посты постимся, а никуда не годимся", чем с фарисеями выставлять напоказ свою честность и добродетель, которые без смирения перед Церковью действительно — никуда не годятся... Оглавление 559. О двенадцати пятницах Хорошее дело и пост, и молитва; но послушание выше поста и молитвы", — говорят старцы-подвижники. Почему так? Потому что без послушания нет смирения, а где нет смирения, там все добродетели — ничто. И это — не человеческое мудрование, это учение слова Божия. Слышите, что говорит пророк Самуил непослушному царю Саулу? «Се, послушание паче жертвы благи... и как грех есть идолопоклонение, тако непокорение» (1 Цар. 15; 22-23). Значит, и пост, и молитва тогда только Господу Богу приятны и для нас спасительны, когда мы послушны святым заповедям Его, когда не по своему смышлению постимся и молимся, а так, как учит нас, как заповедует нам святая матерь наша, Церковь Православная. Но вот что бывает: того, что Святая Церковь нам повелевает, мы не исполняем, а что самовольно придумаем, или вычитаем в какой-нибудь запрещенной тетрадке, то охотно и усердно соблюдаем. И ведь вот что особенно прискорбно: у нас и заботы мало о том, чтобы узнать, как рассуждают о таких тетрадках наши пастыри и отцы духовные, наши учители, от Бога поставленные? Можно ли верить этим тетрадкам? Почему это не позволяют печатать их? Не душевредны ли они? Обо всем этом простые люди и не подумают спросить; а вот что скажут безграмотные старики и старухи, что прочитает какой-нибудь грамотей в рукописной тетрадке, то и закон. Собирается, например, мир на сходку и решает: "Завтра Ильинская пятница-матушка; не сметь работать! А кто будет работать, с того четверть водки миру православному". И празднуют, и думают, что делают доброе дело... Нет! Обманываете вы себя, простые русские люди, — не по-православному вы судите, не по-православному решаете! Кто это вам сказал, что Ильинская пятница — праздник? Где, в каких это книгах Церковных нашли вы такой праздник? Кто установил его?.. Знаю, вы скажете: "Наши деды и прадеды праздновали и нам велели". Да откуда они-то взяли этот праздник?.. Наша Православная Церковь не знает такого праздника, а кому же и знать бы праздники, как ни ей, Церкви Божией?.. Разве ваши деды и прадеды были умнее святых отцов, которые установили все праздники церковные? И хорошо ли вы-то делаете, что справляете праздник, не зная даже, есть ли в Святцах или в других книгах Церковных этот праздник? Ведь не деды ваши писали уставы Церковные; эти уставы писали святые угодники Божии, пастыри Церкви, и не просто вводили их, а собирались на Соборы и обсуждали, какой день следует праздновать, какой—нет. Все эти уставы записаны в Церковных книгах; пойдите в храм, попросите своего отца духовного показать вам книгу Типикон, и поищите в ней, есть ли хоть одно слово о том, чтобы праздновать Ильинскую или другую какую пятницу, кроме Великой Пятницы Страстей Господних? Ничего не найдете, ни единого слова. А ведь если бы Ильинская или другая какая пятница были днями особенно важными, то, конечно, святые отцы постановили бы их праздновать; наверное, и вы не скажете, что святые отцы забыли записать эти пятницы в уставах своих; так и думать грешно. Но тогда откуда же ваши деды и прадеды взяли праздновать эти пятницы? Может быть, вы и сами не знаете этого, а я скажу вам: есть такие книжки, которые печатать не позволяют, потому что они душевредны и Церкви Божией противны; книжки эти, однако же, простые люди, по неведению, переписывают как Божественные, и читают, и верят им, как слову Божию. Такова, например, тетрадка "Сон Богородицы", которую не подобает и читать православному христианину, а ее читают, да еще за святыню почитают; таков и стих "О двенадцати пятницах". И удивляться надо, как это можно верить такому невежественному писанию?.. Послушайте вот, сколько нелепостей в этом стихе о пятницах. Он начинается так: "Придите, братия, послушайте писания Божия, поучения святого Климента, папы Римского, про дванадесять великия пятницы". Но ведь это ложь: ни в Писании Божием, то есть в Священной Библии, ни в писаниях Климента, папы Римского, ни слова нет о двенадцати пятницах; что же это, как не клевета на слово Божие, на Священное Писание, и на святого отца — Климента, святителя Божия? Откуда это сочинитель взял, будто святой Климент писал о двенадцати пятницах? Спросите людей ученых, спросите пастырей и архипастырей наших: им известны все писания святого Климента, и все они скажут, что ни слова в них нет о двенадцати пятницах. А в Библии и сам можешь увидеть — прочитай ее от доски до доски — и помину в ней нет о двенадцати пятницах. Правда, найдешь там упоминание об одной — только об одной Великой Пятнице, в которую пострадал и умер на кресте Господь наш Иисус Христос; ради этой Великой Пятницы Святая Церковь и все пятницы в году (кроме Пасхальной, Троицкой, да на Святках, после Рождества Христова) почитает постом и молитвой; но никакого различия между этими пятницами она не полагает, и никакой особенной награды за соблюдение той или другой пятницы она не обещает. Какие же особые пятницы перечисляет сочинитель стиха о двенадцати пятницах? "Первая, — говорит он, — великая пятница на первой неделе Великого поста: в эту великую пятницу убил брат брата, Каин Авеля..." Итак, по его мнению, первая, самая важная пятница не та, в которую Господь наш за нас пострадал, а та, в которую будто бы был Авель убит. Уже и то нехорошо, что смерть Авеля, человека, он ставит выше смерти нашего Господа Спасителя; но откуда это он узнал еще, будто именно в пятницу, а не в другой какой-то день убил Каин Авеля? Да еще в Великий пост?.. Разве Великий пост при Адаме установлен был? Ведь это установление Апостольское: с чего выдумал сочинитель, будто еще при Адаме был Великий пост? Конечно, это выдумка невежды, и больше ничего... "Вторая, — говорит он, — великая пятница супротив Благовещения Бога нашего. Третья великая пятница супротив Светлого Христова Воскресения: в ту Великую Пятницу распят был Сам Иисус Христос... Четвертая супротив Вознесения Господа нашего Иисуса Христа... Пятая супротив Троицы Живоначальной... Шестая великая пятница супротив Илии, пророка Божия: в ту великую пятницу взят Илия пророк на небеса"... И откуда узнал сочинитель об этом? Священное Писание ничего об этом не говорит; значит, просто выдумал от себя. Выдумал он, будто в пятницу преобразился Сам Иисус Христос; выдумал, будто в пятницу преставилась Пресвятая Богородица; выдумал, будто в пятницу царь Ирод Иоанну главу отсек... "Десятая, — говорит он, — великая пятница супротив Михаила Архангела... В первуюнадесять великую пятницу народился Сам Иисус Христос... Втораянадесять великая пятница: в ту великую пятницу окрестился Сам Иисус Христос"... Вот сколько насчитал сочинитель стиха разных великих пятниц! Святая Церковь знает только одну, Страстную, Великий Пяток, а он насчитал двенадцать... Повторяю: откуда он взял их? Кто ему сказал, будто и Благовещение Пресвятой Деве Марии, и Крещение Господне, и Преображение, и Рождество Христово, и усекновение главы Иоанна Предтечи, и Успение Матери Божией — все эти события будто бы происходили в пятницу?.. Возьмите Евангелие и читайте: нигде ни единого слова нет о том, чтобы какое-нибудь из этих событий случилось в пятницу. Нигде, решительно нигде не найдешь об этом сведений и у святых отцов и учителей Церкви, а они заботливо собирали все древние предания и записывали их. Вот святитель Илия Минятий записал предание, что Спаситель родился в первый день недели, а по-нашему в воскресенье. И уж конечно, мы скорее поверим этому учителю Церкви, чем неизвестному сочинителю стихов о двенадцати пятницах. Говорить ли о других нелепостях, какие обретаются в этом, запрещенном властью Церковной, стихе? Разумный человек и сам поймет, что сочинитель сам, кажется, не понимает, о чем говорит: как это, например, "Иисус Христос крестился с Илиею небесным, со светом со Иоанном со Крестителем", что Он "показал в Троице лице Свое", что вознесся Он тоже будто бы с Иоанном Крестителем... Ложь, неправда, вымысел, даже ересь — все тут перепутано, и всему этому, к сожалению, простые люди верят и, полагаясь на разные обещания, которые сочинитель прибавил к своему стиху, празднуют Ильинскую и другие пятницы, которые Святая Церковь не признавала и не признает... Разумно ли верить этим стихам больше, чем матери Церкви?.. О, простота, простота! Безопаснее было бы тебе слушаться пастырей Церкви, Богом тебе данных, чем мудрствовать по своему смышлению и верить всякой сказке, хотя бы эта сказка и была написана не по-русски, а по-славянски, да еще в стихах... Братья! У кого есть этот стих? У кого есть "Сон Богородицы"? Бросьте их в печь! Грешно верить этим басням!..
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.